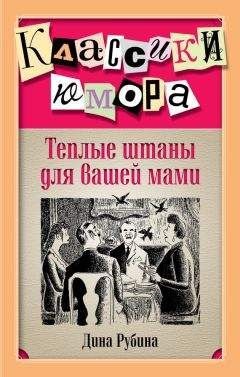Дина Рубина - Синдром Петрушки
Карагёз, развалившийся между ним и Лизой (первые несколько дней пес не отходил от нее ни на шаг), приподнял голову и вопросительно зевнул. Петя потрепал его за ухом, прилаживая лохматую башку опять на подушку.
Под босые ноги попались миниатюрные Лизины тапочки, но он уже не стал шарить свои, чтоб ее не разбудить, так и поковылял в мастерскую, ступая, как пьяная волосатая балерина на пуантах. Добрел, включил на ощупь одну из тишайших ламп-прищепок и рухнул на стул.
— Ну, чего тебе?
— Вспомнил, где видел того кашпаречка.
— Я же сказал тебе: ты ошибся.
— Не именно того, но таких точно. Их было… почкей… восемь. Нет, даже девять.
— Что ты несешь, Тонда? Про что ты говоришь?
— Иди умой свою глупую морду, — невозмутимо отозвался тот. — Мыслиш, звоню тебе в ноци ен так, из гадости?
— Погоди… — Петя отложил телефон, подошел к кухонной раковине, напился и щедро плеснул воды себе на лицо.
Полотенца под рукой не оказалось, так и вернулся к трубке с бегущими по груди ручьями.
— Ну?
— В Берлине.
— Говори толком! — разозлился он. — Что — в Берлине? Когда? У кого?
— Добрже… Вот теперь ты проснулся, поц, то я слышу. Так вот что: паматуеш, в прошлом году мы с отцом ездили в Берлин, сидели там три недели?
— М-м… какой-то частный реставрационный заказ? Помню.
— Да, большая работа, две приватные коллекции старых кукол… Так один из дядьков — он чех, историк-антик, и давно в Берлине. Очень симпатичный. Кудрнатэй, как цыган. Большая коллекция, собирал еще его отец. Такая стеклянная витрина во всю стену, и вот в ней я видел. Сидят в ряд. Удивился — зачем все одинаковые, да такая ерунда. Неинтересно. Он сказал — семейное наследствие, делал его… как это — потомкин? Потоник?
— Не потомок, а предок все-таки, — задумчиво предположил Петя.
— Ну, мне чихнуть. Просто вспомнил. Подумал — можно ведь ему продать, же йо?
— А телефон его есть?
— У отца, наверное, есть. А что, будешь продавать?
— Нэ.
— Ты цвоку или блазень, а? Можно продать отдельно куклу на салоне и отдельно этот зародыш-кашпарек.
— Я тебе уже сказал! — раздраженно отрезал Петя. — Я ничего не продаю! А даже если б и хотел, не могу. Все, завтра поговорим! — И в сердцах отключил телефон.
В ту же минуту его ослепил яркий свет. На мгновение он зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел Лизу.
Она стояла в той же пижаме, в стае улыбчивых коралловых рыбок, в его, огромных ей, тапочках, с рукой, поднятой к выключателю.
— Чего ты не захотел продать? — отрывисто спросила она: бледная, с неистовыми, черными от расширенных зрачков глазами.
Он молча смотрел на нее, мысленно проклиная все эти Борькины лекарства, которые не берут ее ни хрена. Она их щелкает, как белка — орешки, а скорлупки на ветер бросает. И куда деться от ее потрясающей интуиции! Ведь она со вчерашнего дня… да нет, с Самары еще чувствует что-то и мечется, мечется…
— Что! Ты! Не продаешь!
— Ничего. — Он сузил глаза. Улыбнулся ей. — Ты же слышала. Ровным счетом: ни-че-го.
Из спальни приковылял Карагёз на трех лапах: так одноногий инвалид войны, хвативший со вчера лишку, выползает, держась за стены, на громкий скандал в коммунальной кухне.
— И потому прячешься от меня, и разговариваешь, будто тебя придушили!
Шаркая большими тапочками, она приблизилась… и вдруг отшатнулась с искаженным от боли ртом: мгновенная перемена, одна из мгновенных перемен ее подвижного лица.
— Ты плачешь! — Она схватилась за горло обеими руками, будто пыталась оторвать чьи-то невидимые, сомкнувшиеся на ее шее ладони, — жест, который почему-то всегда приводил его в ужас. — Ты плачешь, — повторила она, — плачешь… Я вижу. Значит, это правда!
— Что, что — правда? — Он нервно хохотнул. — Это вода, я просто плеснул немного на…
— Значит, я угадала: я все поняла! — прошептала она с безумной улыбкой. — Этот разговор… он был — о ней, да? Это ее ты не можешь продать!
— Лиза!!! — крикнул он, вскакивая. — Ты сошла с ума! Смешно, ей-богу, это ж вода, Лиза, во-да!!! С чего мне пла…!!!
Но она уже металась по мастерской, не слушая его бодрых воплей, уворачиваясь от его рук, шарахаясь от стены к стене, сшибая кукол, повторяя, как заведенная:
— Ты плачешь, ты плакал, я вижу… Кто-то просил ее продать, а ты… ты сам сказал, я слышала: «Не могу и не хочу!»… Не можешь с ней расстаться… Да ты просто любишь ее, а я загромождаю твою жизнь…
— Господи, Ли-за! Да это же совсем не то, совсем о другом, совсе-е-е-ем!!!
Они перекрикивали друг друга… Как обычно, он напрочь забыл, что она еще полностью не выздоровела и что — терпение, терпение… Разом, будто в обморок грохнулся, забыл все наставления доктора Горелика, — ярился, умолял, обтирал ладонями свои лицо и грудь, протягивал к ней руки, тряс ими и спрашивал: разве можно столько наплакать, ты спятила? Постой, я тебе все объясню… Замолчи на минуту, я все объясню-у-у-у!!! Да ты просто не хочешь меня слышать!
Внезапно она остановилась посреди комнаты, попятилась от него, ударилась спиной о стену и застыла, глядя отчаянными глазами. И вдруг, подавшись к нему, проговорила осевшим умоляющим голосом:
— Мартын…
У него оборвалось все внутри.
А она упала коленями на пол, обняла, стиснула его ноги, прижалась к ним щекой, бормотала, называя его именем, какого не произносила уже много лет:
— Мартын мой, Мартын… продай ее! Умоляю, продай ее! А лучше — уничтожь! И все сразу кончится… Все уйдет, уплывет, как мрак и ужас… Горе кончится! Убей ее, Марты-и-ин!!! Я буду опять выступать, хочешь?! Я опять выйду на эту проклятую сцену, только убей ее!!!
Все внутри у него онемело от этого хрипловатого голоса, от дрожи ее горячих тонких рук, стиснувших его колени, от ее безумного жалкого лепета…
Он побелел — мертвец мертвецом, — вытянул шею и, чувствуя, что еще секунда, и он убьет ее, и сам сдохнет, что сейчас лопнет в груди какая-то жила, взвыл:
— Ли-и-и-за-а-а!!!
Он вытягивал шею со вздутыми венами и выл, как волк на зимнем тракте. Шумно вбирал носом воздух и вновь завывал, мотая головой. Потом рухнул рядом с ней на пол, схватил за плечи, затряс ее, пытаясь что-то сказать…
Оба уже плакали, кричали, не давали друг другу говорить… Оба не могли, не могли ничего друг другу объяснить, стискивали и трясли друг друга под стоны и визг скакавшего вокруг несчастного пса, что пытался пробиться к ним, утешить, вылизать мокрые лица.
Минут через десять обессилели оба… Лежали, опустошенные, на холодном полу мастерской, среди сорванных кукол, разбросанных повсюду в уморительных, страшно живых человеческих позах… В ночной тишине суетился лишь беспокойный Карагёз, то поскуливая, то принимаясь деятельно вылизывать обожаемые лица, то вновь усаживаясь на пол у их голов в терпеливой тоске и ожидании, когда все снова станут прежними: куклы — деревянными, люди — живыми.
— Я нашел Корчмаря… — наконец глухо выговорил Петя.
Она молчала…
Спустя мгновение он повторил:
— Корчмарь нашелся, Лиза… Вот о нем я говорил с Тондой. Все!.. Поднимись с пола, простудишься.
И поскольку она не шевелилась, он поднялся сам, подтянул ее, как в детстве, за обе руки — «але-оп!», — перехватил в талии, перекинул через шею, как пастух — ягненка, и понес в спальню.
И там, сидя у нее в ногах, методично, в подробностях все рассказал, начав с Сильвы, — который даром что под мухой был, а вовремя вспомнил про куклу у соседских девочек, — и закончив щелчком запираемого брюха Корчмаря.
Он уже все рассказал, а Лиза по-прежнему молчала. Смотрела она не на мужа, а в окно, выходящее в другой, большой прямоугольный двор. Там, напротив их квартиры, настырным желтым светом всю ночь горел фонарь, из-за которого они обычно задергивали занавеску, а вчера забыли, заморочились, залюбились… Такой был вчера славный вечер: счастливый Карагёз, размягченная Лиза, раскуроченные коробки набора «Сделай сам», из частей которого Петя за две-три секунды свинчивал некомплектных нежных уродцев, и те на разные голоса провозглашали невозможно уморительные спичи, ссорились и дрались, и признавались Лизе в любви так косноязычно и с таким акцентом, что та в конце концов взмолилась в приступе истерического смеха: «Перестань, дурак, я описаюсь!»
Как хорошо было вчера…
Свет фонаря падал прямо на постель, не добегая лишь до изголовья, где в ночной тени неподвижно лежала на подушке Лизина голова.
Наконец она пошевелилась, отвела взгляд от окна — и он поразился, до чего этот взгляд полон ясной горечи. Ни малейшего следа истерики, ни капли удивления.
— Значит, Вися, — устало проговорила она. И Петя кивнул:
— Но она вряд ли знала про тайник в брюхе. Скорее всего, не знала. Тогда совсем непонятно — зачем, что ей было в этой кукле?