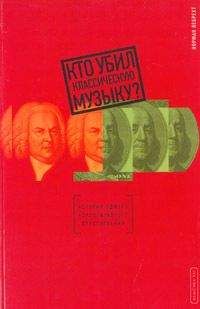Песня имен - Лебрехт Норман
Альберт Саммонс, чью исполнительскую карьеру оборвала болезнь Паркинсона, предложил Довидлу репетировать с оркестром Королевского музыкального колледжа в любое время, когда ему понадобится. «Мы потеряли столько хороших музыкантов за последние годы, — пожаловался он. — Старика Флеша и молодую Неве; Губермана и Фойермана; Буша и Куленкампфа; старика Розе и его дочь Альму; меня и ослабевшего Крейслера — его последняя пластинка ни к черту не годна. Этот парень даст благословенному искусству целительного пинка под зад, задаст уровень».
Ноябрьским утром 1950 года я прочел в газете о смерти Йозефа Хассида. Там говорилось, что он умер в Эпсоме во время операции на мозге. Я подумал: кто дал право врачам лезть в этот дивный, необратимо повредившийся механизм? Вышло так, что на этой неделе Довидлу надо было приехать в Кембридж и объяснить наставникам, что возвращается от наук к искусству. Тринити гордился своими возрожденческими традициями, там были очарованы этой переменой в нем и пообещали держать для него место на обоих факультетах. Ночью мы прогуливались по Большому двору, и я сказал ему о смерти Йозефа. Он стиснул зубы, но сожаления о покойном и любовь к нему выразил кратко и ровным голосом. Ничто не могло теперь нарушить его сосредоточенность.
— Вот что надо помнить об артистах, — сказал отец как-то вечером в конторе после Рождества, — никогда не доверяй их первой реакции. Какая ни была бы новость, первая их реакция будет самозащитной. Маска остается, и ты видишь только то, что тебе позволяют увидеть. Эти создания носят свои эмоции в скрипичном футляре, чтобы честно открыть их только публике со сцены. В частной жизни они включают и выключают эмоцию по желанию. Не верь артисту, когда он плачет или объясняется в любви. Все это — большое представление. К расстройству их относись как к детским скандалам. Утешь, потом наставляй. Прояви сочувствие, когда требуется, и твердость, когда оно иссякнет. Подари им иллюзию твоей любви к ним, но только не любовь, иначе они тебя проглотят.
На него редко нападало такое исповедальное настроение. Мы задержались последними в конторе, дел уже не было, я налил нам бренди, имея в виду развязать его язык. Отец затянулся кубинской сигарой — это баловство он редко себе позволял.
— Иногда, — размышлял импресарио Симмондс, — мы заставляем артистов делать то, чего они на самом деле не хотят. Мы говорим, что это для их же пользы, а на самом деле — для нашей. Они возмущаются нами, говорят, что мы их эксплуатируем. Но если даже то, что мы заставляем их делать, служит исключительно нашей коммерческой выгоде, — а такое бывает нечасто, — в итоге польза все равно будет для них. Потому что, если мы не будем на них зарабатывать, а переключим свою энергию на торговлю недвижимостью или ресторанную сеть, они живенько вернутся обратно на улицу. Наша алчность им нужна как топливо для их честолюбия. Никогда не морочь себя мыслью, что занимаешься этой работой из любви к музыке. Время от времени ты должен получать от нее элементарное удовольствие, чисто личное, иначе потеряешь интерес, лишишься стимула и вылетишь в трубу.
Он выпустил голубую завитушку карибского дыма с ароматом комбинированных мужских удовольствий. И продолжал без моей просьбы:
— Им неприятно видеть, что мы зарабатываем деньги и получаем удовольствие. — Отец вздохнул. — В глаза они называют нас братьями. А за спиной — мы паразиты. Артисты создают нам плохую репутацию, но где они будут без импресарио, Мартин? Я скажу тебе где. В провинциальной ратуше, в дождливую ноябрьскую среду, с мыслью сбежать без бисов, чтобы успеть на последний прямой поезд в Лондон. И запомни, Мартин: чем неприглядней мы выглядим, тем ярче сверкают они. Такова наша роль, и она не постыдная. Мы таскаем дрова для их пламени. Они поручают нам черную работу, и мы принимаем ее с достоинством и чувством долга, в надежде, что они, избавленные от повседневных нужд, способны улучшить жизнь людям. Вот и все тут. Поэтому держи дистанцию, мой мальчик, такой тебе мой совет. Не верь музыканту, когда он говорит о любви, не верь импресарио, когда он говорит о деньгах.
Я выслушал его наставление с легкой тревогой, зная, что с Довидлом мы нарушили все правила. Мы подарили артисту беззаветную любовь, приняв его в семью. Теперь и репутацию нашу мы поставили в зависимость от его успеха. Если Довидл нас подведет, имя Симмондса серьезно пострадает.
Но я не мог высказать отцу свои опасения. Мы оба слишком далеко зашли, попались, как лопухи, на «три листика» — талант, личность, историческая справедливость. Я был влюблен в артиста. Отец поверил в него, оставив все сомнения. Настолько уверен он был в художественной непреложности и моральной настоятельности нашего проекта, что впервые в жизни не застраховал концерт на случай отмены — обычная предосторожность, она спасла бы от финансового краха, когда исчез Довидл. Это показатель благородства моего отца — он ни разу не посетовал на себя за это нелепое безрассудство и столь не свойственное ему упущение.
В день концерта, когда Довидл не вернулся к обеду, я стал звонить дирижеру Фройденстайну, композитору Кузнецову, концертмейстеру оркестра, президенту Королевского Генделевского общества — всем, кто мог задержать или отвлечь его после репетиции. Администратор оркестра, приехавший в контору, чтобы обсудить расходы, сказал, что видел, как скрипач выходил из Роял-Альберт-Холла вскоре после полудня с футляром в руке и переходил дорогу к Гайд-парку. Он был без зонта, а начинался дождь. Глупый администратор не сообразил предложить подвезти.
В пять я пошел домой и позвонил в полицию. Они сказали, еще рано сообщать о пропаже человека. Я проверил пять больниц: ни в одну не поступал человек с такими приметами. Я поискал игорный клуб в телефонном справочнике; в справочнике его не было. Я слышал, как плачет мать у себя в комнате. По другую сторону коридора одевался отец, молча, как на казнь. При любом другом срыве концерта он жонглировал бы телефонами, подыскивая замену. Но в этом случае никакой суррогат не годился. Он разжег такой интерес у публики, что ничем другим его нельзя было насытить. Люди приехали со всего света, чтобы услышать нового Крейслера; Менухин или Стерн их не устроят.
Дороги к Альберт-Холлу были забиты транспортом. Когда мы добрались наконец, я сказал администратору зала, чтобы он вывесил объявления об отмене концерта «ввиду нездоровья солиста». Отец вышел к собиравшейся публике. Он принес глубокие извинения и сказал, что в кассе вернут деньги. За сценой он заплатил оркестру, дирижеру и одиннадцать процентов комиссии Альберт-Холлу. За один вечер мы потеряли десять тысяч фунтов — больше годовой прибыли, но деньги были наименьшей из наших потерь. Мортимер Симмондс лишился доброго имени. Он поставил все, что было, на лошадь, которая не явилась на старт; его суждениям больше нельзя доверять. Друзья избегали смотреть ему в глаза. Только пресса его преследовала, как воробьи телегу лабазника.
Наутро фиаско было на первых полосах. А на внутренних обозреватели скрещивали шпаги домыслов. Одни полагали, что дебютанта сразил страх сцены, внезапная потеря памяти, другие, вслед за полицией, подозревали похищение или разбойное нападение. На следующее утро заголовки омрачились: «По всей стране объявлены поиски виртуоза», «Загадка исчезнувшего скрипача». Фотографии Эли Рапопорта были расклеены на вокзалах, в воздушных и морских портах, на ноги поднят Интерпол, и объявлена награда за информацию, способствующую благополучному возвращению музыканта. Антикваров просили обратить внимание, не всплывет ли скрипка Гваданьини 1742 года «стоимостью свыше трех тысяч фунтов».
Официально скрипка принадлежала Мортимеру Симмондсу, но она его нисколько не занимала. Больше, чем финансовые потери, больше, чем профессиональный провал, его мучила неизвестность, страх за Довидла.
— Это моя вина, — стонал он, — я оставил его без надлежащего присмотра. Я обещал его отцу, что буду заботиться о мальчике, и заботился, как мог, но не хотел удушать его надзором. Артиста нельзя держать на поводке.