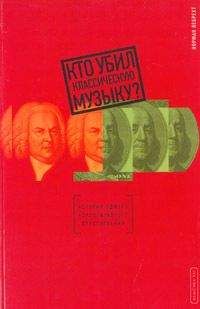Песня имен - Лебрехт Норман
— Что происходит? — спросил я, ввалившись в его комнату.
— Взялся за скрипку. — Он ухмыльнулся.
— Это я слышу. С чего вдруг?
— Деньги понадобились. — Он криво положил Гваданьини в футляр и лихо закурил сигарету из экзотической пачки.
— У тебя неприятности? — спросил я с дрожью в голосе.
— Не такие, чтоб не мог справиться.
— То есть?
— Пара неудачных ночей за рулеткой. То ли неправильно рассчитал метод, то ли там мудрили с колесом. Не могу понять. Один раз я подумал, что мне в стакан чего-то подмешали — я не мог сосредоточиться. Может, кто-то решил, что я слишком много выигрываю.
— Сколько?
— Ну, четыре тысячи у меня заначены. Но я должен мальтийским ребятам шесть, и процент зверский — пятьдесят процентов в месяц. Пока что ведут себя сносно, но испытывать их терпение не хочется. Время от времени даю им тысчонку, как будто снова стал выигрывать, — а там или скрипкой заработаю пару косых, или метод мой в рулетке опять заработает.
Словечки его встревожили меня не меньше, чем сама ситуация. Кто эти мальтийцы и как он может небрежно бросаться «косыми», которых хватило бы на гоночный автомобиль? Я почувствовал себя посторонним, непосвященным. Неприглядная сторона его вырисовывалась зловеще.
— Ты можешь выпутаться из этого.
— Как? — фыркнул он.
— Уезжай в Израиль. Там тебя мальтийцы не достанут.
— Да брось, — сказал он. — Исключено. Последнее, что там нужно, — кормить еще одного скрипача. И очень пригожусь им как новый Эйнштейн, если с простой теорией вероятностей не могу управиться против жульнического колеса. Нет, возвращаюсь к музыке, и надо, чтобы ты помог мне побыстрее разобрать партитуры. Сибелиуса никогда не пробовал?
Он еще ни разу не посмотрел мне в глаза, и лицо у него было не бледное, а подозрительно серое.
— Это еще не все, да? — не отставал я.
Он кашлянул два раза и опять закурил турецкую сигарету.
— Говори.
— На прошлой неделе, — сказал он, — мне пришлось поехать в лабораторию в Эпсоме, посмотреть эксперимент с расщеплением ядер. По дороге обратно я вспомнил, что где-то поблизости, в польской больнице Йозеф Хассид лежит. Я не видел его с тех пор, как нас познакомили у Флеша, и подумал, может, ему приятно будет увидеть дружеское лицо, ландсмана [56]? Отец его, я слышал, умер, несчастный, от рака. Я нашел больницу и попросил пустить к нему. Блондинка в приемной нехорошо на меня посмотрела, но несколько слов на уличном польском открыли мне дорогу в палату. Не знаю, чего я ожидал. Я запомнил хмурого молодого гения, все было при нем: тепло и ясность, легкость и серьезность, техническое мастерство и самообладание — все, что надо для чертовой скрипки. Он мог бы переиграть Крейслера, Хейфеца, Иду, любого из нас. Потом он сошел с ума, избил отца и угодил в этот застенок, где его пользуют электрошоком и инсулиновой комой до завтрака. Он сидел, Мотл, в белой палате с решеткой на окне. Да — еще распятие на стенке, и больше не на чем остановить глаз. Качался взад-вперед, бормотал какие-то слоги, и его волшебные пальцы без толку теребили пуговицу пижамы. Я поздоровался с ним по-английски, потом по-польски, он не ответил. Меня предупредили, чтобы я не заговаривал о его отце и о родственниках, погибших в Польше. Блондинка из приемной стояла в дверях, готовая позвать на помощь, если он на меня набросится. Я не знал, что делать. Просто хотел зарегистрироваться в его сознании — сколько осталось от него после лечения шоками. На тумбочке лежала дешевая губная гармошка, вроде той, что была у бродяги… Кевина, так вроде его звали? Я протянул к ней руку. Он схватил ее сам, поднес ко рту и стал вдыхать и выдыхать через нее — бессмысленные звуки. Я вспомнил его пластинку с мелодией Дворжака и внутренне заплакал о потерянном.
Я хотел как-то достучаться до него. Попробовал на идише, маме лошн — материнском языке. Сказал: «Йосл, ви гейтc» [57]. Он посмотрел на меня как кролик, попавший ногой в силок. И прошептал: «Ароис фин данет, саконос нефошос» — уходи отсюда, твоя жизнь в опасности.
«Фин вус?» — я спросил — от чего? Но он больше ничего не сказал, только качался и подвывал на гармошке. Он не намного старше нас, Мотл, ему двадцать шесть от силы, но сгорбился, как старик в инвалидном кресле, дожидающийся конца.
Что мне было делать? Я поцеловал его в лоб, пообещал прийти еще и побежал, как угорелый, вниз по лестнице, по двору и за ворота — и только тут вспомнил, что забыл у него в палате папку с записями об эксперименте. Вернулся, папка уже ждала меня в приемной, а Йозефа слышно не было — увезли на терапию, сказала блондинка. Я спросил: «Есть надежда на выздоровление?» — «Если верите в чудеса». Она улыбнулась. «Такая тяжелая шизофрения редко поддается лечению».
Я обозлился, я чуть ее не ударил. Для нее он был просто еще одной жертвой войны, а для меня — образцом, лучшего я не знал. И я подумал: может, он оракул, послан, чтобы спасти меня от страшной ошибки? Я был в опасности. Израиль, рулетка, Кембридж — не для этого я предназначен. Я должен выйти на сцену и играть на скрипке. Вот мое место и Йозефа. Ему, может быть, уже не удастся, и я должен сделать это за него, чтобы оправдать нашу жизнь. Я был словно в трансе, стоял перед выходом, пока блондинка не спросила, хочу ли я поговорить с врачом, — и тут, поверишь, я просто удрал.
Вернулся в Кембридж, пошел в комнату отдыха, сел в кресло и попробовал собраться с мыслями. На столе лежала «Мьюзикал таймc». Я прочел, что Жинетт Неве погибла — ты слышал? Она летела из Парижа в турне по Америке, и самолет разбился на Азорах, погибли все. С ней был ее брат, аккомпаниатор, ее Страдивари сгорела. Жинетт было тридцать лет, по виду — девушка, и играла как ангел.
Сначала Йозеф, теперь Жинетт. Как будто на нас, учениках Флеша, проклятье — или наказание. С религией я, может, и расстался, но суеверие — совсем другое дело. Вряд ли есть на свете артист, который не носит талисмана, не готовится к выходу на сцену по заведенному ритуалу, не посылает к черту в ответ на «ни пуха, ни пера». Мы живем в страхе перед черными кошками — и тут одна посмотрела мне прямо в глаза.
Ночью я пошел пройтись по Большому двору и немного выпил у себя в комнате. Мне пришло в голову, что теперь, когда Неве нет и Хассид болен, у меня шансов больше. Намного легче добиться успеха такому бездельнику, как я. И я постараюсь не только для себя, но и за Йозефа, и за Жинетт, и за других невезучих, которых уже никогда не услышат. В общем, я сел за стол, написал моему наставнику записку, что у меня нервное истощение, на следующее утро сел в первый поезд и приехал домой — и теперь потеть, уставные шесть часов в день.
Он взял скрипку, автоматически настроил ее и сыграл страницу, кажется, сольной сонаты Изаи.
— Ну, а ты что думаешь? — спросил он, возвращая меня на мое место.
Что я думал? В порядке опасений: а что теперь будет со мной? Как я вписываюсь в его пересмотренное будущее? Что дальше? Но в этот раз даже низкий эгоизм не мог испортить радости от музыки, лившейся из-под его смычка — лившейся словно из природного источника. За Изаи последовал Брамс, за Брамсом — строгий Барток. Каждую пьесу он сыграл так, как будто был ее владельцем, как будто ни один другой музыкант не имел права ее исполнять. Его власть над музыкой стала непререкаемой.
— Ты с отцом говорил? — спросил я.
— Мы разговариваем, — сказал Довидл.
Вечером Мортимер Симмондс изложил блестящий план сотворения нового Крейслера. Потенциал скрипача теперь очевиден, стратегия безупречна. На этот проект были брошены все семейные ресурсы. Мать срочно отвезла Довидла экипироваться на Сэвил-Роу; одна из ее беженок, стилистка, соорудила ему прическу а la Крейслер. Родственница из больницы св. Марии занялась его диетой. Дядя Кеннет отполировал ему зубы до блеска. Личный секретарь Главного раввина учил его, как вести себя с прессой. Джеймс Агет упомянул о нем на собрании Кружка критиков, Сесил Битон [58] сделал его фотографию. Ничто не было оставлено на волю случая, каждая деталь его явления миру была с энтузиазмом продумана нами.