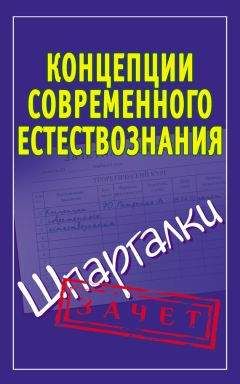Мир всем - Богданова Ирина
Я посидела с соседями до двух часов ночи, пока не ушла Рая. Сначала мне смертельно хотелось спать, а потом расхотелось. И задремать не получалось, и читать не читалось. Кружил хоровод снежинок за окном, и верилось, что, стуча посохом, по ленинградским улицам ходит самый настоящий Дед Мороз.
1946 год
Антонина
Первого января был выходной день. Можно валяться сколько хочешь, ходить в гости, читать книги, растопить дровяной титан и наконец как следует вымыться в ванной, с блаженством ощущая на теле струи тёплой воды. У меня был брусок земляничного мыла, и я подумала, что вполне заслужила немного роскоши.
После ночного застолья в квартире царили тишь да благодать. Все спали. Стараясь двигаться бесшумно, я вышла на кухню и оглядела остатки пиршества. Посреди стола сидел Пионер, то есть Пион, и яростно чесался.
Я сняла тапок, чтобы прогнать паршивца со стола, елейно поинтересовавшись:
— Блошки?
Кот ретировался мгновенно, словно растворился в воздухе, оставив на месте преступления опрокинутый лафитник, из которого пил Крутов. В кухне ещё витал запах еды и табака. Я распахнула форточку, высыпала в мусорное ведро окурки и поняла, что новогоднее утро оставило в душе гулкую пустоту, как в пересохшем колодце. Хлынувший в комнату холод теребил края скатерти с пятнами от винегрета, на чьей-то тарелке лежал огрызок солёного огурца. И как-то исподволь, невзначай, на противовесе объедкам и окуркам всплыла в памяти строфа стихов Теофила Готье в изящном переводе расстрелянного Гумилёва.
Эти стихи однажды зимой произнесла бабуся. И я их сразу запомнила.
Бабуся Новый год не признавала за праздник и отмечала только Рождество. Когда она приезжала к нам из Могилёва в зимние каникулы, в нашей комнате начинало твориться волшебство, обвитое серебристыми, ещё дореволюционными ёлочными бусами и упоительно пахнущее сладким кексом. На Рождество бабуся всегда пекла кекс с изюмом и украшала его верхушку ребристой звездой из голубоватой фольги. Вечером мы гасили свет, зажигали свечи на ёлке, и в колеблющейся полутьме бабушка нараспев читала стихи о Рождестве. Хотите верьте, хотите нет, но в детстве я думала, что послушать бабусю к нам на праздник прилетает незримый Ангел и тихо сидит на подоконнике, качая крошечными ножками, обутыми в золотые башмачки.
Потом я выросла, вступила в комсомол и перестала верить в ангелов и отмечать Рождество, а затем грянула война, гусеницами танков втаптывая в грязь милые детские воспоминания.
Я собрала со стола грязные тарелки, свалила их в раковину, поставила на примус чайник погреть воду и поняла, что я ни в коем случае не хочу пропустить нынешнее Рождество, как бездумно пропускала много лет подряд. Нежданная мысль принесла мне тепло и успокоение. За мытьём посуды я представляла, как наберу холодных, пахнущих хвоей еловых веток, поставлю их в бутылку (вазы у меня нет) и зажгу свечи. Кекс испеку из манной крупы и яичного порошка, вспомню стихи, которые читала бабуся, и мимо моего окна обязательно, хоть на мгновение, промелькнут белоснежные крылья. А ещё седьмого января надо будет сходить в церковь. Церковь…
Мои руки с мокрой тарелкой замерли на весу. Учительница и церковь понятия несовместимые. Если в школе узнают, что я ходила в церковь, уволят на следующий день с волчьим билетом. Не знаю, когда возникло подобное выражение и как выглядели волчьи билеты в действительности, но сейчас это означало строки в характеристике, с которыми не возьмут на хорошую работу, если только на лесоповал или торфоразработки.
Я горько усмехнулась, но решения не изменила. Оставалось лишь узнать, где в Ленинграде есть хоть одна действующая церковь. Не станешь же спрашивать у прохожих: «А где тут церковь?» — такие вопросы многие сочтут провокационными и обратятся в милицию — с задержанием, протоколом и сообщением на работу. В общем, прощай любимая работа и здравствуй волчий билет.
Я подлила в раковину горячей воды из чайника, чтобы домыть вилки и ложки. Мысли перекинулась на мои поездки на Новодевичье кладбище, откручивая события назад, начиная от сна, с просьбой бабуси о поминовении. На ум пришёл разговор двух уборщиц, когда Клавдия Ивановна дала понять, что посещает церковь. У неё и надо спросить. Но как? Не подойдешь и не спросишь в открытую.
Я поставила стопку вымытых тарелок на стол и взяла кухонное полотенце. Если подумать, то выход всегда найдётся. Идея возникла вместе с последней тарелкой. Хорошо, что я на фронте всегда читала газеты, стараясь не пропускать новости о родном Ленинграде. Завтра пойду в школу и проведу разведку боем.
Это была осень сорок четвёртого года. Я помню, что у меня жутко, до звёзд в глазах болел живот, но я вышла на пост. Едва не плача, я поднимала и опускала сигнальные флажки, поворачивалась вокруг своей оси и старалась сосредоточить взгляд в одной точке, чтобы не упасть в обморок. К вечеру интенсивность движения обычно нарастала, и к сумеркам машины пошли сплошным потоком. Сжав зубы, я переждала новую волну боли, чувствуя, как дурнота постепенно отступает. Если бы поток хоть на минуту замедлился, я могла бы зажать флажок под мышкой и вытереть лоб, но сперва плотным караваном пошли полуторки, потом я пропустила пару «эмок» с открытым верхом, а дальше, с грохотом и лязгом, на меня надвинулась танковая колонна. Когда идут танки, всегда кажется, что от их мощи земля должна дрогнуть и прогнуться. Я остановила движение слева и освободила путь для танков.
При виде меня белозубый паренёк на броне сорвал с головы танковый шлем и приветственно замахал. Если бы я могла расслышать его слова, то наверняка услышала бы привычное:
— Салют, сестрёнка!
В этот миг закатное солнце выбросило из туч последний пучок рыжих лучей, которые соломой рассыпались по башне танка, на мгновение высветив крупную надпись «Дмитрий Донской».
«Дмитрий Донской!» — Я шевельнула губами, вдохнув придорожную пыль, что летела мне в лицо.
Буквально накануне в газете промелькнула небольшая заметка, что Русская Православная Церковь передала армии танковую колонну «Дмитрий Донской», собранную на средства верующих, в том числе и в блокадном Ленинграде. Хотя работа регулировщицы не оставляла времени для размышлений и эмоций, мне показалось, что именно в эти танки вложена частичка моего Ленинграда — холодного, голодного и любимого до отчаяния.
Казалось бы, когда учителю перевести дух, как не в каникулы: спокойно сходить в читальный зал библиотеки, подобрать методический материал, посетить музеи или выставки. Но увы. В девять утра как штык учитель должен быть в своём классе, чтобы начать подготовку к следующей четверти.
— Совершенно нет времени повысить свой культурный уровень! — пожаловалась мне Степанида Ивановна из второго «Б» класса.
Она нагнала меня на Среднем проспекте и взяла под руку. Степанида Ивановна отличалась высотой, шириной и толщиной. Кроме того, под носом у неё явственно пробивались тёмные шелковистые усики.
— Смотрю я на вас, Антонина Сергеевна, и вспоминаю молодость. Чем-то вы на меня походите! — Слова о нашем сходстве ранили меня в самое сердце. Я сурово нахмурилась, чего Степанида Ивановна не заметила, и продолжила: — Вы очень ответственная, и дисциплина у вас в классе хорошая.
Я пожала плечами:
— В нашей школе девочки. Были бы мальчишки, и с дисциплиной было бы больше проблем.
— Что верно, то верно, — согласилась Степанида Ивановна, — хотя я не очень приветствовала разделение учеников на женские и мужские. Всё-таки дети должны учиться взаимодействовать вместе, по-коммунистически, а не как в царские времена. Я сама в гимназии училась и помню, с каким нездоровым интересом на нас поглядывали ученики мужской гимназии. Впрочем, министерству образования виднее.