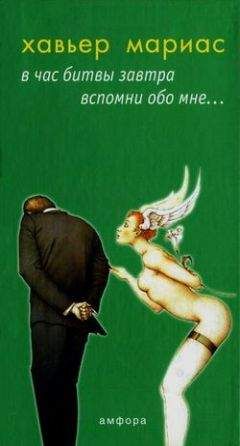Берта Исла - Мариас Хавьер
– Но знаешь, мы не слишком о детях и мечтали. Всегда были чересчур заняты. – И Мэри Кейт уставилась своими косыми глазами на пару молодых уток, плававших в пруду, словно они казались ей детьми, которых они так и не родили, или дети, по ее мнению, не слишком отличались от глупых животных, ведь их надо еще и кормить. – Кроме того, мы заботимся друг о друге, – добавила она равнодушно. – Мигель заботится обо мне, я забочусь о Мигеле. Мы с ним не только супруги, но еще и составляем одну команду и никогда не разлучаемся. Только смерть нас разлучит, и мы хотели бы, чтобы она пришла к нам обоим одновременно, правда, Мигель?
– Правда. Истинная правда.
В течение следующих четырех-пяти недель – именно столько продолжалось то, что я в дальнейшем буду называть “эпизодом”, хотя на самом деле это было не просто “эпизодом”, это было страхом и паникой, – у меня действительно сложилось впечатление, будто мои новые знакомые составляют команду и никогда не разлучаются. Я ни разу не видела их порознь. Они стали часто появляться в Садах Сабатини (может, и раньше туда захаживали, просто я не обращала на них внимания), к тому же встречались мне и в нашем районе – по их словам, они жили поблизости, но не уточнили, где именно: однажды махнули куда-то в сторону бульвара Художника Росалеса, но махнули очень неопределенно. Как это случается с некоторыми бездетными супругами, они быстро и даже радостно меня “удочерили”. Кинделаны вели себя любезно и внимательно, тревожились из-за нас и предлагали любую помощь, даже посидеть с малышом, если понадобится (не понадобилось, да я и не доверила бы сына почти незнакомым людям, которых, кстати сказать, никто мне не представил, какими бы милыми они ни были, какую бы самоотверженность ни проявляли). Я позволяла им обо мне заботиться, но до определенного предела. Иногда мне было очень одиноко, и, пока Гильермо был совсем маленьким, я ни на миг не спускала с него глаз, ведь поначалу ужасно трудно отойти от ребенка, не прижимать его постоянно к груди, не вдыхать его запах и не желать, чтобы время остановилось, чтобы дети никогда не вырастали, чтобы так оно и продолжалось вечно: мы вместе, я и они, они и я, а всего остального хоть бы и не было. Тем не менее одиночество давало о себе знать, и я была рада иметь кого-то рядом, вести приятные разговоры, чувствовать заботу людей, к которым можно обратиться в случае необходимости. Кинделаны дали мне номер своего телефона, я дала им свой, и с тех пор они принялись звонить мне часто и без стеснения, чтобы узнать, как у меня дела и не надо ли мне чего. Оба были готовы помочь, или оказать услугу, или выполнить поручение, или принести что-то, что я забыла купить. Иногда меня удивляло, что даже поздно утром они все еще сидят дома, а не находятся в своем посольстве, где люди обычно перегружены делами; именно в эти часы бывали больше всего заняты мои мать, свекровь, сестра и подруги, вообще все работающие женщины, и я не могла на них рассчитывать. Однажды я задала такой вопрос Кинделанам, но они ответили, что пользуются гибким графиком, и я выкинула сомнения из головы. Во время одного из редких и всегда торопливых звонков Томаса я мельком упомянула про них, рассказала, как познакомилась с ними, спросила, помнит ли он таких, учитывая фамильярность, с какой толстяк отзывался о нем, как, впрочем, и Мэри Кейт, хотя та, пожалуй, просто поддакивала мужу.
– Нет, такого имени я что-то не припомню, – ответил Томас. – Может, если бы увидел их в лицо… Но тут нет ничего необычного. В течение года приходится посещать столько коктейлей и совещаний, здороваться с сотнями людей… С каждым говоришь по несколько минут и тотчас их забываешь, за исключением очень важных или незаурядных персон, которые производят на тебя неизгладимое впечатление.
– Нельзя назвать их незаурядными, но, раз увидев, трудно спутать с кем-то другим, поэтому меня очень удивляет, что я не помню эту пару по прежним встречам. Он невероятно толстый, а она косоглазая. Вся из себя раскрасавица, но из-за косоглазия внушает невольную тревогу.
– Нет, не помню, может, сталкивался с ними на каком-нибудь мероприятии в Ассоциации латиноамериканцев Великобритании и Ирландии. А теперь я должен с тобой попрощаться, у меня совсем нет времени.
– Ассоциация латиноамериканцев? Ты вечно торопишься… Не знаю, чем они там тебя так загружают.
– Эта Ассоциация организует разного рода мероприятия, ее члены приезжают по делам в Испанию и не упускают случая наведаться в Британский совет или в посольство, особенно если там устраивают выпивку. Со времен Старки ирландцы вечно там толкутся. Не забывай, что он тоже из них. И очень гордится тем, что был первым заведующим кафедрой испанского языка в дублинском Тринити-колледже и у него учился Сэмюэл Беккет. Порасспрашивай его, если тебе интересно. Он наверняка знает эту пару.
Уолтер Старки был основателем и директором Британской школы, где Томас учился, пока не перевелся в мою “Студию”. Старинный друг его отца Джека. Он по мере возможности покровительствовал Томасу, и я подозревала, что Томас отчасти ему был обязан своей должностью, для которой казался слишком молодым. Сейчас, после долгого преподавания в Калифорнии, Старки вернулся в Мадрид, где несколько месяцев спустя ему предстояло умереть от тяжелого приступа хронической астмы.
– Нет, я не хочу его беспокоить, он человек очень пожилой. К тому же мне это не слишком интересно. По правде сказать, они очень добры ко мне. И вечно стараются чем-нибудь позабавить ребенка. Вчера зашли к нам и принесли разные игрушки. Очень приятные и внимательные люди.
Наверное, я должна была проявить побольше любопытства, и тогда, пожалуй, не случилось бы той истории, мне не пришлось бы пережить такой безумный страх. Хотя в результате я кое-что узнала про Томаса. Они часто спрашивали меня про него, эти самые Руис Кинделаны или Мигель и Мэри Кейт (вскоре мы уже перешли на “ты”, поскольку в Испании в 1976 году немногие долго обращались друг к другу на “вы”), и спрашивали как-то слишком настойчиво, но я принимала это за обычную любезность, попытку поддержать меня и проявить внимание.
– Ну что, есть какие-нибудь новости от Томаса? Чем он теперь занимается в Лондоне? Небось приходится много разъезжать, выполнять разные задания. И что конкретно он делает в Форин-офисе? На кого работает? В каком отделе? Кто его начальник? Мы знакомы с тамошними людьми, и, скорее всего, он работает с Гаторном, нашим добрым знакомым. Спроси, имеет ли он дело с Реджи Гаторном. А вообще-то, Томас слишком много времени проводит вдали от дома, тебе не кажется? Если он и бывает им нужен время от времени, не слишком ли долго они его при себе удерживают, а? Должны были бы учитывать его семейные обстоятельства, маленького ребенка… Бог им этого не простит. Ты только не подумай, что я его осуждаю, работа есть работа, да, но ему бы следовало почаще бывать дома, первый год в жизни малыша – самый трудный, он требует массу сил и внимания. Видно, как ты устаешь, как нуждаешься в помощи. Кроме того, Томас многое упускает, ведь дети так быстро меняются, и Гильермо никогда больше не будет таким, как сейчас. Когда твой муж намерен вернуться? Небось это из-за каких-то служебных проблем, из-за сложного задания. Небось сильно скучает по семье? Правда? И горит желанием увидеть вас, особенно тебя.
Я мало что могла ответить – ни конкретно, ни неконкретно. На самом деле я сама почти ничего не знала, даже даты его возвращения. И никогда не слыхала такого имени – Реджи Гаторн. И не имела представления, как Томас проводит все эти дни в Лондоне. Ему было вроде бы скучно рассказывать об этом по возвращении, а мне, разумеется, было бы скучно его рассказы слушать. Я никогда не любила что-то выпытывать, в нем же всегда – с самой ранней юности, со времени нашего знакомства – была некая непроницаемость, и она с годами стала только заметнее. Единственная область, которая была для нас по-настоящему общей, главной и основной, имевшей безусловное значение, как и для любой пары, – это дом, постель, ребенок, смех, поцелуи и разговоры без нудных подробностей и отчетов о повседневных делах, это радость быть вместе, и пойти куда-то вместе, и видеть друг друга или слышать дыхание любимого в постели. Думаю, кто-нибудь более стеснительный сказал бы: “дыхание нашей любви”. Да, я страшно скучала по нему и воображала, что и он тоже скучает. Но то, что связано с другим человеком, чаще всего относится к особой области, к области воображения. Ты никогда не знаешь точно, да и вообще не знаешь, насколько искренни самые пылкие слова, или это только игра, только условность, как не знаешь, на самом ли деле другой это чувствует или просто считает, что должен чувствовать, а потому с готовностью такие слова произносит. Я всегда горела желанием поскорее увидеть его. А он? Наверняка судить не могу. Как я уже говорила, что-то непонятное терзало ему душу, какое-то бремя, взваленное на плечи в конце пребывания в Оксфорде, то, что, по его словам, само его выбрало. Любые желания угасают и остывают, если все решено заранее и человек лишен права свободного выбора. В некотором смысле для желаний тогда просто не остается простора, либо они возникают в моменты слабости в виде пустых фантазий, чтобы тотчас рассеяться как дым.