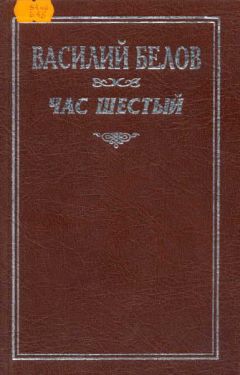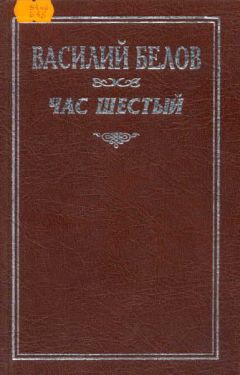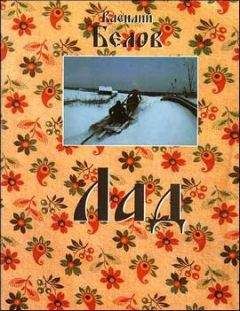Василий Белов - Кануны
— Ко мне? — кротко спросил Савватей.
— К тебе. — Дровни под Николаем Ивановичем хрустнули. Савватей вздохнул, принимая это как божие наказание.
Светало. Стоял небольшой мороз, без ветра и снега, редкие звезды меркли над Шибанихой. Павел пропустил вперед тестя и Евграфа, пересчитал народ и подводы. Скопилось двадцать упряжек, половина с подсанками. Почти из каждого дома люди пришли на помочи. Павел пропустил последнюю подводу и пошел пешком, ему хотелось побыть одному. Только теперь он начал по-настоящему осознавать, какое нешуточное дело он затеял, в какую заботу втянул тестя, дядю Евграфа и Клюшина. Поверили ему, а чем-то все обернется? От волнения он сначала прибавил шагу, потом, ощущая, как растет где-то в груди безрассудная, необъяснимая радость, побежал. Догнал дровни Ивана Нечаева, прыгнул на обмотанные ужищем колодки. Некоторое время тони ехали молча.
— Вань, знаешь ты эту, как ее? Про Байкал-то, священное море. Либо шумел-горел…
— Знаю обе, — Нечаев подхлестнул мерина.
Словно бы невзначай, он запел, сначала негромко. Пашка выждал какое-то время и тоже, как бы мимоходом, присоединил свой голос к нечаевскому. Они пели, и каждый чувствовал, как рождается у них друг к другу что-то хорошее, надежное.
Шумел-горел, пожар московский,
Дым расстилался по реке,
А на стенах вдали кремлевских
Стоял он в сером сюртуке.
Зачем я шел к тебе, Россия…
Лошади фыркали, снег скрипел под копытами. Палашка Миронова завизжала где-то в середине обоза…
— А у меня, Павло, парень родился, Петруха, — сказал Нечаев. — Не у меня, конешно, у женки.
Пашка кивнул, крепко сдавил ладонью плечо Нечаева.
Рассвело совсем, когда остановились на ровной крутолобой горушке. Клюшинское урочище уходило далеко, к Синему ручью. Дерева, все одного возраста, проглядывались на полверсты вокруг, не было никакого подсада. Снежное еловое царство дремало, от стволов падали голубоватые тени. Они растворялись, исчезали в лесной глубине. Солнце, теряя красноту, кое-где издалека пробивалось сквозь хвою, все было тихо. Лес будто затаился, прислушиваясь к людям и лошадям. Все отпустили чересседельники, укрыли коней тулупами. Не сговариваясь, пошли за Иваном Никитичем, который на ходу вытаскивал из-за кушака топор.
Евграф не утерпел, обтоптал на горушке снег и развел костерок. Запах смолистого дыма сразу же сделал горушку по-домашнему близкой. Разделясь попарно, с пилами, уходили все дальше, на горушке остались только Кеша, Евграф и отец Николай.
— Так что, Николай Иванович? — Кеша снизу вверх поглядел на попа.
Николай Иванович сверху вниз поглядел на Кешу.
— Истинно говорю, буду один!
— Ну, дело хозяйское, — Кеша закурил.
Павел переглянулся с Евграфом. Отец Николай скинул шубу, подстегнул полы подрясника под ремень. Обтоптал снег около ровной, словно голенище валенка, елки, размахнулся. Топор забористо и легко вошел в еловую мякоть. Кеша хихикнул, сидя на корточках. Он не прочь бы покурить еще, но и ему стало совестно. Он направился туда, где перекликались бабы и девки.
Первые дерева шумно упали в урочище, топоры стукали тут и там, у Павла вдруг захолонуло в животе, ладони вспотели.
— Шанец-то весь понадобится? — спросил Евграф.
— Весь, божатко…
Снег буровился дровнями и подсанками, за урочищем лошадям было по брюхо. От Карькина хребта шел пар, когда выехали на сенную полянку. Они оставили лошадь у стоговища и взяли инструмент.
— Батюшки, экая осемьсветная, — сказал Евграф, но Павел не пристал к разговору, не оглянулся назад. Сосна высоко вверху громоздила свои отростелья: каждая главная ветвь была по толщине с полувековое дерево.
— Руби подпору! — приказал племянник Евграфу, и тот покорно пошел в сторону. Павел начал раскидывать снег вокруг дерева. Они без перекура заготовили с полдюжины длинных ваг, обили с сосны наледь.
— Что, божатко?
— Да что… Давай. Взялся за гуж, не говори, что не дюж…
Павел подхватил топор, отступил шага на два-три. Приблизился. Сильный удар не отозвался в могучем дереве ни единым звуком, ни одна хвоинка не шевельнулась в громадной, как туча, кроне. Павел сделал надруб и взял пилу.
— Ну, с богом! — Евграф поставил ногу поплотнее.
Они начали неторопливо пилить. Пилили без передышки с четверть часа, пока вся пила не ушла в дерево. Теперь ходу пиле не стало. Дергая, короткими рывками одолели четвертую часть, вытащили пилу и, не сговариваясь, взялись за топоры. Рубили сосну с двух сторон. Павел сильно, с потягом, опускал топор в белую древесную мякоть; вторым ударом, уже под другим углом, вырубал щепку. С обратной стороны надреза, в такт с племянником, как молотил, рубил Евграф.
Сосна-великанша стояла в безмятежной величавой дремоте, удары не отзывались в ее необъятной плоти. Евграф первый остановился, бросил на снег рукавицы-однорядки.
— Стой, Павло, остепенись! Дай спых…
Минуты две, не обронив ни слова, постояли с выпрямленными спинами. Опять, не сговариваясь, начали рубить. Павел клал топор с придыхом, Евграф крякал с каждым ударом. Уже было желто вокруг от свежей щепы. Она приставала к подошвам валенок, так обильно выступали на ней бисерные смоляные слезинки.
Наевшийся у остожья Карько издали глядел на работу. Вострил уши, недоумевая, почему так долго не нужен, отставлял от безделья то одну, то другую ногу. Мужики рубили и рубили…
Было высокое, светло-синее, предвесеннее небо. Роговская поляна, вся залитая слепящим солнцем, светилась словно из своей снежной глуби. Ее белизна, прошитая строчками более темных, но тоже белых заячьих следов, переходила в тени от опушки в еле ощутимую и тоже какую-то глубинную, будто небесную синь. Лес на той стороне поляны разделял общее световое раздолье на два: на слепящее снежное и мягкое небесное. Издали, из темного дыма еловых согр, сбегались густо-зеленые конусы елок, они оттеняли размытую зелень тонких стволов осинника. Словно легкий сиреневый пар, поднялась и задрогла над розоватыми свечами стволов березовая прозрачная шевелюра; мерцали, золотились на солнышке червонно-коричневые мутовки сосен. Обволоченные нежным зеленцом хвои, сосны эти были недвижимы, но они жили сейчас полнее и шире других дерев, их безмолвие таило в себе какое-то скрытое благородство. Жила, созерцала, не мешая другим, наслаждалась солнцем и пила поднебесную синеву каждая пара иголочек, ясно видимая по отдельности. Но в то же время она, каждая пара игл, была частью, и все дружно облепляли тонкий сосновый пруток, и каждый пруток был на своем месте, в каждой сосновой лапке. В свою очередь, каждая сосновая лапа жила отдельно и вместе с другими; они, не враждуя друг с другом, переходили в более крупные ветки. Ветки незаметно перевоплощались в мощные бронзовые узлы, расчлененные по всей кроне и объединенные в ней единой и неделимой.