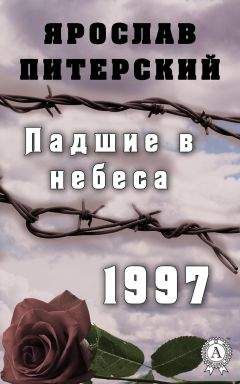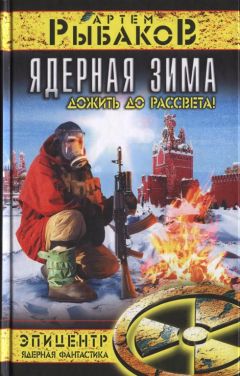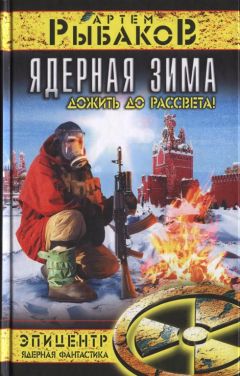Ярослав Питерский - Падшие в небеса
На его место буквально запрыгнул рыжий мордоворот Лепиков. Он нервно хохотал и бормотал всякую ерунду:
— Да не слушай, тут, не кого. Они, все, очумели. Все. Они, все вруны. Хотя, вот Гиршбергу я верю! А вот, этому контре! Ух! — Лепиков замахнулся на Оболенского. — Я бы вообще не говорил с ним! Вообще. Эта контра недобитая, тебе только вред доставит. Хуже сделает. А будешь его речи враждебные слушать — себе срок дополнительный намотаешь! Звякнула щеколда. В двери открылась маленькое окошко. Откуда-то из коридора, раздался гулкий и низкий голос:
— Эй, сто тридцатая! Получай жрачку! И не давиться! Чай по кружке! Больше нет сегодня! Лепиков сорвался с места и кинулся к «кормушке». Бывший прораб, наклонился, почти по пояс и встав на колени, заискивающим голосом пролепетал:
— Давай, давай сюда. Давай, вот чаек, вот кусочек! Э! Э! Что ты мать твою, давай с корочкой! Давай! Вон, тот, побольше! Павел с изумлением смотрел на это. Петр Иванович подтолкнул Клюфта и по-отечески — сжал его локоть:
— Павел, нужно подойти к двери. Иначе, проморгаете пайку. Тогда до обеда будет голодно. Да и все. Это плохо. Тут надо есть, что дают. Клюфт, встал с табуретки и медленно подошел «кормушке». Гиршберг и хакас расступились — пропустили новичка. Павел взглянул на них с благодарностью. Клюфт нагнулся что бы получить пайку — из коридора ударил в нос запах горячей еды. Но это, был обманчивый запах. «Едой» — то, что протянул ему какой-то мужик в черной «робе» — назвать было нельзя! Кусок черного, полусухого хлеба и горячая вода, в железной кружке именуемая, тут, в тюрьме — «чаем». Павел, на секунду замер над посудиной — разглядывая содержимое. Его, тут же, грубо окрикнул раздатчик пищи:
— Эй! Новенький, что ли?! Посторонись! Получить дай другим! Следующий! — заорал мужик в черной робе.
Клюфт отошел в сторону. Горячая кружка обжигала пальцы. Павел вернулся к своей табуретке и поставил посудину на нее. Рядом присел Павел Иванович. Старик улыбнулся и деловито сказал:
— А вот, пить, этот чай — нужно пока он горячий! Потом глотнуть эту бурду будет противно. Да и кишки надо прогреть. Пейте. Пейте. Это конечно не индийский чай, но все-таки. Его делают тут, в тюремной столовой — из крошек. Жгут крошки от хлеба и заваривают. Получается что-то наподобие чая. Тюремного. Вот такой рацион. Да вы пейте, пейте! Пока горячий, — старик отхлебнул из своей кружки коричневую бурду.
Павел, вспомнил, что хочет есть. Засосало под ребрами. Желудок сократился. Рот наполнился слюной. Клюфт с жадностью посмотрел на кусок черняшки и откусил мякиш. Странно. Но этот пресный и черствый хлеб ему показался сдобным пирожным. Клюфт с удовольствием жевал коричневые крошки и наслаждался. «Надо же! Раньше я не знал, что хлеб может быть таким вкусным!» — поймал себя на мысли Павел. Даже, когда в середине двадцатых, было голодно — в доме всегда был хлеб. И хотя Клюфт не избалован сладостями, особого значения культу еды не придавал. А когда отец говорил ему — к хлебу надо относиться с уважением, хлеб надо брать в меру, Павел пропускал это мимо ушей. Еда! «А как я ел когда-то наваристый борщ со свининой! Умм! Как он ел пельмени! А какие мама солила на зиму огурцы?! Ой! Мама! Какая вкуснятина!» — Павел почувствовал, что от мыслей о еде у него закружилась голова. Он зажмурился. Через минуту он дожевал кусок. Желудок запросил еще, но в ладони остался лишь запах от тюремного хлеба. Павел непроизвольно поднес к лицу ладонь и понюхал пальцы.
— Что нюхаете запах хлеба? — старик, лукаво смотрел на него, похлебывая из кружки чай. — Вы пейте, пейте. Павел вздохнул и поднес кружку к губам. В нос ударил запах ржавой, горячей воды и пережаренных сухарей. Клюфт отглотнул коричневую бурду. Вкус оказался не таким уж «противным», как себе представлял Павел. Он еще раз отхлебнул из кружки.
— Вот, вот, настоящий каторжанин! — радостно воскликнул Петр Иванович.
— Да, начинаете обживаться! Так, хорошо! Хорошо! Вот в глазах даже огонек жизни появился. А то совсем скисший был! — добавил Гиршберг. Директор тоже пил чай из железной кружки:
— Кстати, вот вы так и нам не сказали, кем работаете? За что задержали, мы и не спрашиваем. Тут, всех, не, за, что. Тут, все говорят, меня взяли не, за, что. И самое смешное — никто им не верит. Хотя, каждый считает, себя — невиновным. А вот, соседу — не верит. Думает, что уж его то, арестовали по делу. Не может ведь, целая камера, да, что там камера — пол тюрьмы сидеть без причины?! Ан, нет, дорогой! Как, видите — может! Может! Хотя конечно мне вы не верите. Но я и не прошу. Так кем вы на свободе то работали? Павел, вспомнил слова старого тюремщика — «не верь, не бойся, не проси!». Клюфт, нахмурился и отхлебнув в очередной раз из кружки кипяток, ответил вопросом на вопрос:
— А, вы то, сами, кем будете? А то, вот, интересуетесь, что-то много? Но директор совхоза не смутился. Гиршберг, улыбнулся и качнув головой, весело ответил:
— Логично. Умно. Правильно. Вижу, кое-какие, правила выживания в камере, вы знаете. Ну, хорошо. Я бывший директор совхоза. С юга края. Меня обвиняют в шпионаже, диверсии и создании антисоветской подпольной организации. Кстати вон Лепиков, — Гиршберг кивнул на рыжего мордоворота. — Он, из моей ячейки, так сказать. Он у меня в совхозе, прорабом работал! Вот так. Но я естественно этого ничего не делал. Хотя вы мне можете и не верить. И может, скажите — кем вы трудились? Или не хотите с нами разговаривать? Так мы отстанем. Правда, ведь, Павел Иванович? — Гиршберг посмотрел на старика. Тот кивнул и тяжело вздохнул. Директор совхоза тоже вздохнул и добавил:
— Только вот учтите Павел, выжить тут совсем в одиночку тоже будет трудно.
Вернее это совсем не возможно. Вас сломают. Все равно сломают. И хорошо, если не на первом допросе. Так, что можете молчать, если хотите. Но поверьте, вам лучше будет, если вы с нами будете дружить. Павел ухмыльнулся и покосился сначала на Оболенского. Затем на Гиршберга. Отхлебнув чай, тихо ответил:
— Дружба. Да. Мечтал я, вот о такой дружбе. Ничего не скажешь.
— А, что вам наше общество не нравится? Ну, тут уж простите великодушно-с! Господин Джугашвили еще не предусмотрел-с, как выбирать друзей по камере! Пока, по крайней мере! Глядишь, в наступающем году, его опричник, по страшной, для каторжан фамилии — Ежов, эту инициативу возьмет, как говорится в свои колючие руки! — обиженно пробормотал Оболенский. Клюфт понял, что «слегка перегнул». Он срывает свою злость на этих людях — ни в чем не виноватых! Они, вовсе, не причем, что Павел оказался на нарах. Да и выжить в тюрьме — в одиночку, трудно. Клюфт, допил свой чай и поставив кружку, на каменный пол, тихо сказал:
— Извините. Я не хотел. Просто, как-то, все навалилось. Но Гиршберг не обиделся. Да и Оболенский улыбнулся. Старик вопросительно смотрел:
— Так, кем изволите работать? Вернее работали? И, за, что вас?
— Я журналист. В газете работал. В «Красноярском рабочем». Арестовали ночью. За что не знаю. Пришли и арестовали. Обыск учинили.
— Ах, журналист! Журналист! Как, я сразу, не догадался! — словно актер на сцене, воскликнул Оболенский и хлопнул себя ладошкой полбу. — Ну, да. Эти глаза! Эти глаза надежды и неприятия несправедливости! Бедный мальчик! Он так верил в светлое коммунистическое будущее! И вот, те на! Реалии сталинской диктатуры! Конечно!
— Почему верил? — обиделся Павел. — Я и сейчас верю. Все это ошибка. Ошибка и меня выпустят. Вот, к следователю схожу… Тут в разговор вступился Гиршберг:
— Петр Иванович, но полноте! Полноте мальчишку тут пугать! Верит еще пацан. Нужно осторожней! Вы, вот, что Павел, вы на него внимания не обращайте! — директор совхоза кивнул на старика. — Он совсем тут озлобился. И болтает много. Хотя конечно некое разумное в его словах есть. Но я советую вам его не слушать. А от себя, вот, что скажу — тут главное готовиться к худшему, а не к лучшему.
Это первый закон. И не надейтесь, вот так, отчаянно, что вас выпустят. Поверьте. Те, кто в камере, они тут надолго. Минимум на полгода. А там…
— А, что там, — с тревогой спросил Павел.
— А там, молодой человек, либо суд, вернее то, что называется у Сталина судом, а на самом деле судилище! Либо, как вы надеетесь — свобода. Но вот, только, суд гораздо быстрее и чаще бывает. Свобода, она призрачна! А там. Там, после их большевицкого суда, вас могут отправить в лагерь. Или… — словно римский сенатор заявил Оболенский. Он, встал и вытянув вперед руку, махнул на дверь камеры.
— Что или? — переспросил Павел.
— Или вас приговорят, как это ласково говорится на языке большевиков к стенке — то бишь к расстрелу! Намажут лоб зеленкой и все! Финита ля комедия мой друг!
— Петр Иванович, ну хватит пугать молодого человека! — воскликнул Гиршберг. Но Павел не испугался. Он, с равнодушием выслушал перспективы своей судьбы. Надежда на то, что его выпустят, еще теплилась в его душе. А вот, директор совхоза, как показалось Павлу — сам ужаснулся от слов Оболенского. Илья Андреевич растерянно забормотал: