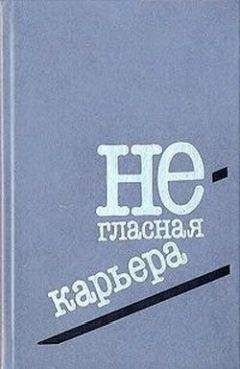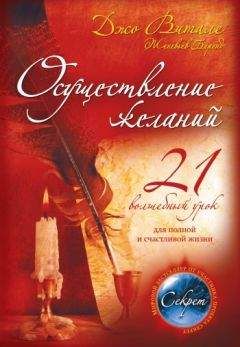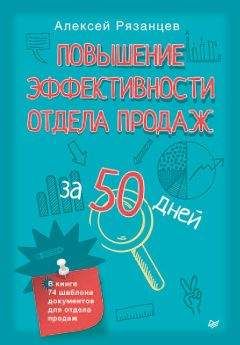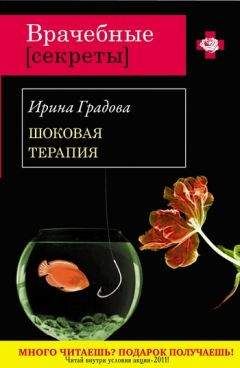Александр Проханов - Место действия
— Странно вы рассуждаете! Что мы, захватчики к вам явились? Оккупанты? Разве у нас не общее дело? На штабе вчера говорили… Как прикажете вас понимать?
Елагин надавил на эти рыжые брови испытанным, если умело им пользоваться, способом. Одной интонацией собрал под свои знамена невиданные грозные силы. И устыдился своей попытки, услышав все то же упрямое:
— Как хотите, а врезаться не дам.
Елагин знал, существует два центра, два города: ветхозаветный, шаткий и новый, растущий. Этот второй снижается здесь, как ширококрылый «Антей», готовый раздавить хрупкую полосу, использовав ее раз, для посадки. Он, Елагин, служит в экипаже «Антея». А этот, недоверчивый, несогласный, был в аэродромной прислуге.
Новый город возьмет от старого только название. Рассосет, перемелет бесследно в бетонных и стальных жерновах деревянный, легчайший прах. Другие люди перехватят инициативу у прежних. Станут управлять отсюда связками железных дорог, газопроводами, гроздьями городов и заводов.
Для него, Елагина, хлопоты о водопроводе, о бане были временными, изнурительными, заслонявшими любимое целое. Для предисполкома Белорыбова они и были тем целым, которому он служил. Они, из разных мест, сошлись ненадолго, случайно.
Елагин умом понимал свою правоту и победу. Но тайным, невнятным чувством стыдился своего превосходства.
— Так вы не дадите согласия?
— Не дам.
— Вы же знаете, к концу квартала дома должны быть сданы. Я доложу о разговоре генеральному. Вопрос все равно решится.
— Надо с умом решать. А не так, чтобы люди страдали.
— Да кто говорит о страданиях? — опять заражаясь нетерпением, сказал Елагин. — Ладно, простите, что потревожил… Будем решать в другом месте.
И, забрав свою схему, недовольный им и собой, вышел…
К вечеру Елагин подъехал к подстанции — последнему объекту, за которым следил.
Широкая, седая от снега просека пробивала леса и поляны. Распахнув стволы, висели три медные жилы. Плавно срывались с металлических мачт. Стремились вниз по дуге. Мягко взмывали. Усаживались на мгновение на далекую стальную вершину.
Елагин стоял под линией, среди электрических тресков. Чувствовал ее мощь, бег невидимых в меди, неслышно ревущих сил, омывавших Сибирь. Город строился на берегу этой медной трехжильной реки, выходил к водопроводу, готовился пить и глотать.
— А вот сами смотрите, как сделано. Лачком покроем да вам сдадим в упаковочке!.. Мы вам в ручки положим, вы нам в ножки поклонитесь! — бурачный от ветра, электрик радовался приходу Елагина. Приглашал взглянуть на работу.
Елагин задирал голову к мачте с призрачно-сквозным перекрестьем. Высоко, среди стекла и металла, ходил человек. Попадал головой на солнце. Заслонял его. Тихо бил и звенел, словно вытягивал из огненного клубка медные нити, развешивал над полем и лесом.
— Мачту, как обещались, выровняли, — продолжал электрик. — Громоотводы наладили. Да что там! Сами заинтересованы поскорее сдать!
Елагин почти не слушал. Чувствовал, как устал. Голова его тихо плыла от вечернего солнца, от узорного стального плетенья мачт. Сталь росла и кустилась. Цепко стебель за стеблем, охватывала небо и землю. Расцветала, как сад. И садовник ходил в небесах по стальным ветвям и вершинам. Раскрывал соцветия и почки.
— Сами, говорю, заинтересованы сдать поскорее, — электрик переступал валенками, залитыми изоляционной резиной. — Мне ведь тоже квартиру дают. Хватит, говорю, мне таскаться по Руси-матушке. Пусть другие попробуют. Сколько я этих подстанций построил — ужас! Пора свой дом заводить, пора детей растить. Правильно, нет? Человек должен дом иметь, чтоб было где детей растить. А те, которые не набегались, пусть походят, поездят.
Он кивал на того, в высоте, который балансировал на уровне солнца. Казалось, оттолкнется от мачты и пойдет по медной скользко-блестящей струне над лесами, полянами продолжать свой путь по земле.
— Работы на день-другой… Оградительную решетку поставили, а под ней лаз. Не годится! Кошки, собаки пролезут. Мы в Усть-Илиме подстанцию сдали, а кошка, чертяка, пролезла да на контакты прыг — и замкнула. Такая дуга пошла!.. От кошек, от птиц беда… Тут все сова летала, все сесть норовила. Я говорю: стукните ее от греха, ребята. Замкнет к черту!.. Ну один из наших, Ляшенко, долбанул ее дробью. Должно, помирать полетела.
Тревога и похожая на предчувствие тяжесть пребывали в Елагине. Хотелось очнуться в свежести, в молодой, светлой силе, вернуть отлетевшую надежду на небывалую долю, но не было сил. Держала ледяная земля, низкое, без птичьего крика небо, под которым он, Елагин, не юный, не прежний, пытался прозреть и очнуться.
Ему казалось, он лежит на стерильной, не окропленной еще белизне. Квадратные глазницы домов смотрят на него напряженно. Фонари наклонились над ним, готовясь светить на грудь. Жестяная чеканная рыба стучала, как метроном. К нему подключили от мачт оголенные провода и контакты. Вводили в кровь водовод. И уже с тихим бархатным ревом начинали подходить механизмы. Сжимались могучие бицепсы, заносили над ним блестящий, криво заточенный нож.
Очнулся. Сизое, стиснутое морозом лицо. Улыбка па толстых губах:
— Через пару деньков принимайте работу!
— А сова? Вы сказали, сова…
— Ляшенко ее долбанул. Крен дала и помирать полетела.
— Куда?
— Да вон, за лесок!..
Дорога, наезженная самосвалами, с хрустким вафельным следом от промчавшегося вездехода, скользила, звенела. Елагин миновал ободранное, продуваемое насквозь мелколесье. Иртыш недвижной громадой, в сорных, снежно-пыльных откосах, ахнул пустынными льдами. Рваный, застывший разлом от последнего осеннего каравана топорщился глыбами. В них словно вмерзли лязг и скрежет железа, истошные гудки, крик мегафонов. От этой пустоты и огромности отвердели глаза. Брови и щеки жгло от бесчисленных полетов песчинок.
Елагин шагал, испытывая грудью непомерное давление реки. Ее рубленых, кристаллических льдов. Бесшумного слепого движения могучих подледных вод, колыхнувших землю плавной дугой. Осыпая кручи, стремился Иртыш к океану.
На снежном лугу, запорошенные, лежали стальные трубы с надписью «Манесман». Как многоствольные, гигантских калибров минометы.
Елагин заглядывал в кольца труб. Вырезал округлые, охваченные железом картины голых ивняков и откосов. И вдруг под ногами увидел сову.
Опрокинувшись на спину, она отсвечивала выпуклой грудью. Чуть раздвинула крылья, круглоголовая и пернатая, с расширенными янтарными глазами. Он испугался ее электрического взгляда, ожидаемой, но такой невероятной встречи. Медленно наклонился.
Сова, не мигая, смотрела бесстрашно, не сторонясь его взора.
Елагин стянул рукавицу, тронул нагрудные перья. Грудь была твердой, перья не гнулись. Он поднял сову, с тихим хрустом оторвав от наста. Держал на весу, разглядывая оцепенелый клубок когтей. Сова была жестяной, ломкой, чуть засахаренной от снега. Глаза золотились в ледяной голове.
Пальцы, державшие птицу, замерзли. Он протянул ее навстречу дующей железной трубе. Птица, попав в струи ветра, качнула крыльями, как маленькая модель самолета. Неживая, откликнулась на движение родных полярных стихий.
Елагин держал сову в аэродинамическом ревущем раструбе. Проверял ее крепость, летучесть, убеждаясь в ее совершенстве. Бережно положил на снег, на прежнее, оставшееся от нее углубление. Вернул обратно отливку, металлически-белую скульптуру совы.
Он стоял над убитой птицей. Труба хлестала его порошей, сдирала тончайшие оболочки, одну за другой. И, чувствуя, как уменьшается, как улетучивается его тепло, он думал:
«Это так, это так… Меня все меньше и меньше… И вот металлический луг, металлическое небо, и птица, и, в общем, иная жизнь, не та, что казалась возможной…»
Труба грозно и хрипло ревела. Валила с ног. И он думал:
«Моя мать стареет одна, и некогда ей написать… Мой Город из легких фантазий превратился в угрюмую тяжесть, в невозможность полета и чуда… Моя жена давно не моя, в ином пространстве и времени. А я в этот миг стою на ледяном сквозняке, всеми забытый, ненужный… И как же мне дальше жить?»
Убитая белоперая птица. Труба — как огромный, нацеленный на нее дробовик. Его зрачки вмерзают в птичьи ледяные зрачки. И мысль — об очерствении души, об ущербе любви и веры.
Ему было худо, темно. Лютый сибирский ветер, кандально звенящий, выдувал остатки тепла. И, чувствуя, как погибает, как глохнет от свиста последнее живое звучание, он стал выкликать, не зная кого, в этой темной сибирской ночи.
Он звал горячо и жарко. Глядел не в небо, а на убитую птицу. Связывал с ней все лучшее, на что уповал: отчий дом, материнское родное лицо. И другое лицо, любимой. Свой чудный задуманный Город. И что-то менялось в ночи.
Дальний, чуть слышный звук…