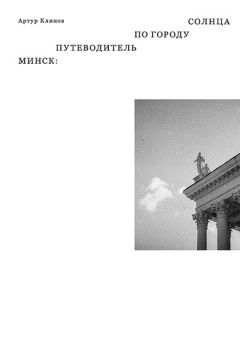Борис Ширяев - Ди - Пи в Италии
Я провел с ними день и увидел в жизни не написанное в книге, но сказанное меж ее строк. Да, нас любят. За нас жертвуют жизнью. Больше того, нас хотят познать и понять. Но это трудно.
Судьбе было угодно, чтобы я вновь встретился с некоторыми из них теперь, в 1951 г., когда пишу эти строки. «Встретился» лучше взять в кавычки: они в Марокко, а я в Италии, но, прочтя мою фамилию в газетах, они вспомнили меня, написали мне, и из их писем я вижу, что эти нас узнали и поняли.
Повторяю, это были эмигранты из Болгарии. Я говорю это потому, что после я увидел, что каждая из зарубежных групп российского рассеяния имеет свое лицо, воспринявшее некоторые черты от среды, в которую ее закинула бродяжья доля.
Потом я побывал в Берлине, Париже, Праге, Белграде, Риме и из встреч, из слов, из действий мог наметить эти отдельные черты каждой группы, а из их совокупности целое —
— Вторую Россию, многоликую, многообразную и во всех своих преломлениях далекую от Первой — Россию мечты.
В Берлине, где мне приходилось не только соприкасаться, но и сливаться в общей работе с местной и стянутой туда войной эмиграцией, деловое лицо Второй России, несколько сухое и холодное, редко с улыбкою, с глазами, пытливо и внимательно рассматривавшими меня и спрашивавшими:
— А скажи, пожалуйста, что ты, собственно говоря, можешь делать?
Я спрашивал его о том же и получал ответы от инженеров, офицеров, священников, журналистов, дававших их в действенной борьбе за то же, за что боролся я, с тем же врагом, постольку, поскольку это было возможно. Так словами и действиями ответили мне генерал Краснов, немец — епископ Берлинский, редактор «Нового Слова» Деспотули, генерал Бискупский, десятки офицеров, инженеров.
— Делаем, что можем. Трудно. Приходится многим поступаться, но делать надо. В этом наш долг. А там увидим…
Лицо России-мечты было неясно и туманно.
В Париже я пробыл неделю и встреч было мало. Действия эмиграции я не видел, но противодействие чувствовал. Мой близкий друг, молодой офицер и журналист М. С. Давиденко, пробыл там больше, многих видел, говорил, и вернулся в Берлин с тяжелым чувством.
— Все нас там учить стараются, на ошибки наши указывают, а в общем чуть ли не за врагов считают, за немецких наемников, изменников «русской идее»… Черт бы их взял! Не Россия им нужна, а их Февральское словоблудие… Абстрактную идею со всех сторон рассматривают, а живого человека рассмотреть не могут.
В Праге мне повезло. По роду моей командировки туда мне пришлось соприкоснуться с кружком казакийцев. Встретили любезно и пригласили даже на свое собрание. Какой-то столь же малограмотный, сколь и самоуверенный, докладчик долго и внушительно излагал замечательные сведения, почерпнутые из какой-то «старой книги, хранящейся в Ватиканской библиотеке». Очень глубокая была эта книга. Несмотря на ее древность, из нее можно было почерпнуть новейшие для многих (в том числе и для меня) сообщения об особой казакийской расе, то ли скифской, то ли германской, но от славян очень далекой и враждебной им.
Даже лампасы эта раса носила еще в глубокой древности.
Оспаривать эти ценные сведения, я, конечно, не стал.
В Белграде я прожил семь месяцев. Первые дни встречи с его русскою частью всколыхнули во мне что-то погребенное глубоко в сердце, но неизживаемое, жгучее, хотя и засыпанное толстым слоем остывшего пепла.
Русский собор и в нем — знамена былых славных российских полков. Огромная русская библиотека, в ней — книги, каких не найдешь уже в России. Отблески былой Москвы в архитектуре самого города. Русский Корпус, блещущий самоотвержением и подвигом.
Все это ласкало и, вместе с тем, бередило засохший струп незажившей глубокой раны. И больно, и сладко.
Потом в сладость влилась горечь.
Мощи не оживают, хотя они и нетленны. Музейные экспонаты повествуют о прошлом, но никогда не возрождаются в настоящем. Отрубленный палец не прирастает вновь к телу.
В Русском Корпусе попытались сделать такой эксперимент: сформировали полк, кажется, 5-ый, из навербованных в оккупированной зоне добровольцев. Вышло плохо. Я слушал жалобы с обеих сторон — и от белградцев и от подсоветских русских. Каждая сторона была права по-своему. И те, и другие искренно и пламенно шли в борьбу за Россию.
Мне было тяжело. Отрубленный палец не прирастал и не мог прирасти. Ему мешала буква «ять».
***Распроклятая буква! Раздавленная, вычеркнутая всею жизнью, она корчится, извивается, многоликая и многообразная.
В Берлине она веяла холодом недоверия, скептицизма. В Париже презирала с высоты «великого идейного наследия». В Праге кривлялась в бутафорском жупане пана Мазепы. В Белграде пугала шелестом высохших слов, истлевшими скелетами.
Проклятая буква! Она убивает живое, превращает высокий подвиг в жалкую карикатуру. В Берлине я однажды встретился со смелым, честным жертвенным русским человеком. Его звали Ларионов. Потом читал его брошюру, написанную с буквой «ять». В ней он рассказывал о совершенном им подлинном жертвенном подвиге. Лет двадцать тому назад, он, движимый глубоким чувством любви к России, с огромным риском для жизни пробрался в Петербург, ставший Ленинградом, и метнул бомбу в собрание народных учителей, писавших без буквы «ять».
Погибли несколько из них и его соратник по этому, совершенному с действительно честными намерениями, подвигу. Потом погибли тысячи расстрелянных в ответ на его бомбу.
Но самое страшное было в волне возмущения, обиды, боли, прокатившейся по всей Первой России. Возмущение бесцельностью совершенного, боли от обиды, непонимания и осуждения.
Мечта метнула бомбу в себя самое рукою, писавшей букву «ять».
***Проклятая буква!
Мы сидим с Александром Ивановичем, «новым» эмигрантом из шахтеров, шахтером из русских крестьян, около ировской печки и читаем. Он теперь научился читать по-русски и жадно глотает все, что возможно. В библиотеке лагеря, кроме «Труда» и «Правды», по-русски ничего нет. Их Александр Иванович не берет.
— И так все знаю, что там Иоська напутлял!
А у меня теперь есть, что почитать. Я добываю оживающую в Европе русскую прессу и кое-что получаю из США.
Александр Иванович читает медленно, водя по строкам пальцем, порой отрывается от листа, задумывается. Мозги у него тяжкие и крепкие, как жернова, все перетирают в муку. Иногда он спрашивает объяснений незнакомых слов и записывает их на бумажку.
— Скажите мне, как эта вот буква называется? Я все позабываю…
— Буква «ять», Александр Иванович, а читается так же, как «е».
— А зачем же ее пишут? Раз другая есть?
— По привычке, Александр Иванович.
— Вот, должно быть, и тот помещик по привычке ее в книжечку писал.
— Какой помещик?
— А тот, какой все свои убытки в книжечку записывал… Я вам его показывал.
— Пожалуй, что так.
— Пишут много и хорошо пишут, — отрывается Александр Иванович от газеты, — правильно пишут, а самого основного нет, самого главного.
— А что, по-вашему, самое главное?
— Чтобы всем нам вместе быть. Как Иоська — генеральную линию взять. Он на коммуну, на колхоз, а нам напротив всем вместе.
— Пишут и об этом.
— Генеральной линии нет. Все друг на дружку восстают… А все русские, все против Иоськи.
— Это потому, что у каждого своя буква «ять» есть, Александр Иванович!
— Как это?
— А так: что запомнилось с того времени, когда в России были, то и тянут за хвост. Помещик — вам про свои березки вспоминает, другие — как они революцию делали… Каждый свое…
— А всем грош цена… барахло это… Сорганизовать надо всех на генеральную линию.
— Как же вы это сделаете на чужой земле? Сами видите, в каком мы положении.
— Иностранным державам все разъяснить надо. Ведь Иоська и их слопает, как чехов, к примеру… Вот это и нужно сказать, пугануть их.
— Трудно это! Пока сами не попробуют. — Эх, был бы я грамотным!
— А кто же вам мешает? Время есть. Хотите, я вас грамматике обучу? Писать будете правильно. Вам это особенно интересно. Вот вы и теперь все стихи складываете, а без грамматики это трудно. Хотите?
— А смогу? Мозги заскорузли.
— И медведей плясать учат.
— Спасибо. Попробую… только вы учите без этого, как его… ятя… шут с ним!
22. В точку!
Получаемые и добываемые мною газеты привлекают в наш неуютный барак и русское население других, несколько более удобных блоков. Читать на-дом я даю лишь особо избранным, аккуратным в сроках возврата. Таких мало. Русские люди, как известно, не немцы, и ко времени у них отношение особое. Большинство читает здесь же, примостившись на поставленных «на попа» поленьях.
Разный народ приходит. И «старые», и «новые». Вот, например, два профессора. Они почти однолетки, около сорока каждому, оба читали гуманитарные дисциплины, хорошо по ним эрудированы, очень самоуверенны. Оба, видимо, делали удачные карьеры, оба любят цитаты — нерушимые для них базисы. Это общее.