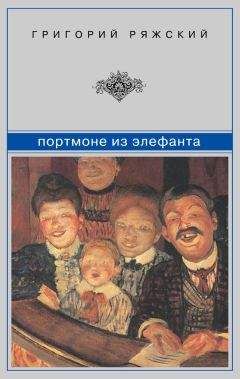Григорий Ряжский - Портмоне из элефанта : сборник
Выбора не было, но особый выбор и не был нужен. Бабушке с дедушкой во времена их жизни цветов не дарили, отцу это вообще всегда было до фени, ему, в хорошем смысле, все было до фени, что не являлось бабами, наукой, детьми или внуками, ну а матери, Любови Петровне, нравилось все, вообще все… Особенно что подешевле…
Он купил пять жиденьких, но зато недораспустившихся желтых хризантем и пошел назад, думая, что воду уже, наверное, отключили — надо будет все равно где-то найти и наполнить банку…
Подходя к своему участку, он подмигнул Полуабрамовичу — мол, спасибочки, Борисоглеб Карлыч, за сохранность блошиного кожзаменителя. Герка на мгновенье представил себе, как с живой блохи сдирают кожу, и внутренне хохотнул. Он протянул руку к сумке и… отпрянул… На ее месте валялась смятая газета, но он сразу понял, что больше ничего там нет… НЕТ!!!
Сумка исчезла… Исчезла вместе с банкой, совочком, газетой, журналом с певичкой, бутербродом, фосфалюгелем и… урной с прахом его покойной матери, Любови Петровны.
— Нет… — прошептал Герман, — нет… Только не это…
Он еще раз пошевелил пустую газету, потом закрыл и открыл глаза, надеясь на чудо или сон… Ни того, ни другого не случилось — чуда не произошло, сон не подтвердился, сумка не явилась. В животе, чуть ниже правого подреберья, в месте язвы, взвыла бесшумная сирена… Она выла не как обычно, кругами — тише-громче, а на этот раз — на одной пронзительной ноте, острой, но с зазубренным краем…
Он присел на корточки, не в силах сопротивляться боли.
«Прободная… — пронеслось в сознании, — наверное… Господи Боже мой…»
Его забило мелкой дрожью. Мысль ускальзывала, боль не утихала.
«Мамочка… — подумал он, — мамочка моя…»
Больше он ничего придумать не мог. Нахлынувший ужас был такой нечеловеческой силы, что парализовал волю вместе со способностью что-либо предпринять и даже слегка перешиб язвенную сирену. Хризантемы, переломленные в середине стеблей, безжизненно свисали из его руки. Он рассеянно посмотрел на них и разжал руку. Цветы упали на подмерзшую землю и предсмертно замерли…
Внезапно он поднялся с места и пошел по своей аллее, к выходу на главную… Он шел, не зная еще куда и зачем… и вышел с другой, не ближней стороны его аллеи. Глаз его уперся в высокую кованую ограду, что опоясывала пространство, объединившее четыре могилы с роскошными беломраморными постаментами. Пространство это было притянуто к крайней из могил и нагло выпирало дальше, захватывая пешеходную часть главной аллеи, там, где ходят посетители. В прошлом году этих могил здесь не было. Он взглянул на постаменты…
На каждом из них красовалось по портрету. Портреты были высечены по мрамору с ювелирным качеством исполнения и принадлежали молодым парням примерно одного бандитского возраста. «Прощай, Витек…» — было высечено ниже первого портрета.
— Мрази… — с глухим раздражением попытался перевести он стрелку в белокаменном направлении. — Уроды… — со злостью добавил он, адресуя это неизвестно кому — то ли пострелянной братве, то ли могильным властям, выделившим явно взяточный кусок земли на старом кладбище.
Легче не стало… Следующие полчаса, забыв про боль в желудке, он как сомнамбула бродил по кладбищу в поисках спасительного решения, но оно не приходило. Как дальше жить, он не знал… Герман поднял голову и встретился взглядом с Полуабрамовичем. Он совершенно не помнил, как вновь оказался у своего участка…
— Здравствуйте!..
Гера вздрогнул и оглянулся. В глазах его застыла тоска, сирена в животе заработала по новой…
На него смотрела девушка лет двадцати, в потертых джинсах и скромной курточке, тоже не последнего образца. Девушка была некрасивой, но с каким-то очень добрым и, несмотря на возраст, материнским лицом. В руке она держала полиэтиленовый пакет.
— Вы к нам? — вежливо обратилась она к Герману. — Ну, то есть к нему? — она кивнула на памятник. — К Борисоглеб Карловичу?
— Нет, я ваш сосед, — хмуро ответил Гера и кивнул на свой участок, — через ограду.
Девушка улыбнулась:
— А то мы столько лет ходим ухаживать и еще никогда никого здесь не видели… Как они уехали…
— Кто уехали? — злясь на самого себя, зачем-то спросил Гера. — Когда уехали?
Девушка охотно продолжила:
— Да Полуабрамовичи… Они уж лет как двадцать уехали… В Германию, насовсем. Потому что думали — евреи, а оказалось — немцы… А мы их соседи были и сейчас там живем. Они уехали, я еще не родилась… И они нам с тех пор посылки шлют к ихнему Рождеству. У нас это — до Нового года. Ну, чтобы мы ухаживали за их дедушкой… — она снова кивнула на памятник. — А он, между прочим, хоть немцем был, а работал батюшкой по еврейской вере, раввином, по-ихнему… — Она сверилась с тусклыми золотыми буквами Геркиной фамилии, что видны были с его мраморного куска, и добавила: — И по-вашему тоже… И, говорят, очень всем помогал…
Герман слушал вполуха, но что-то его не отпускало в этом странном рассказе юной соседки по могильной ограде.
— А Клара Борисоглебовна умерла два года назад, — продолжала словоохотливая девушка. — А сын ее, герр Карл, все равно нам подарки шлет, до сих пор. И мы тоже ходим…
«Сплошные Карлы да Клары… — подумал Гера. — Идиотизм какой-то, двойной херр… — неожиданно вспомнился хозяин первых апартаментов в Германии. — А может, тот самый?..»
— В последний раз конфеты прислал, «Клубника в шоколаде» назывались, мы раньше таких никогда не пробовали… — закончила короткое повествование девушка. — Просто объеденье.
Между тем она перевернула сумку и вывалила на землю огромный кусок полиэтилена — укрывать Карлыча на зиму. Вместе с прозрачным покрывалом на землю вывалилась пустая литровая банка с крышкой и журнал «Спид-Инфо» с эстрадной певичкой на обложке. Певичка была в крохотных трусиках и с голой, накачанной чем-то нечестным грудью. Правой рукой она поднесла ко рту огромную клубничную ягоду и томно приоткрыла ротик в предвкушении будущего удовольствия. Банка от толчка об землю перевернулась, сделала два оборота по дорожке и замерла этикеткой вверх. Строго говоря, белый бумажный прямоугольник, вырезанный из тетради в клеточку и наклеенный на баночный бок поверх фабричной бумажки, этикеткой не являлся. Но зато самодельная этикетка эта несла информацию не менее важную и одновременно пугающую и обнадеживающую, чем этикетка фабричная. «Клубника протертая, 1995» — сообщала тетрадная бумажка. И выведено это было… Любовь-Петровниной… маминой рукой…
Гера вздрогнул.
— Откуда у вас эта банка? — спросил он девушку, затаив дыхание в странном предчувствии.
Девушка смутилась:
— Я… это… нашла ее… Там… — Она неопределенно махнула рукой в сторону.
— Где?!! — неожиданно для себя самого громко и резко вскрикнул Гера.
Девушка сжалась и испуганно посмотрела на Германа:
— Ну, там, у входа… А чего?..
— Пошли! — заорал он. — Покажешь! — И потащил ее за руку в сторону главного входа.
Через пять минут они стояли около кучи кладбищенского мусора вперемешку с опавшими листьями.
— Здесь… — все еще находясь в испуге, указала на кучу девушка.
Гера посмотрел в указанном направлении, и… сердце его остановилось… Прямо сверху, посреди кучи, лежала его старая газета, он узнал ее сразу по зачерканному кроссворду. Рядом валялся один из двух пакетиков фосфалюгеля, а еще чуть дальше, немного в стороне от основания кучи, там, где заканчивалась утоптанная земля и начинался асфальт, — разбитая на куски гипсовая урна с прахом его матери, Любови Петровны… Часть маминого праха была рассыпана по асфальту, другая часть находилась на дне недорасколотого днища урны. Вокруг не было ни души…
«Так… — мысленно и внутренне очень сосредоточенно и тупо констатировало Геркино сознание, — совок и бутерброд отсутствуют…» О блошином кожзаменителе оно почему-то вообще не вспомнило.
Сердце слабо тюкнуло где-то не на своем месте и ритмично подключилось к работе головы.
Ноги у Герки подогнулись, и он мягко опустился на землю…
— Зайка… — тихо промолвил он, обращаясь неизвестно к кому: то ли к маме, то ли к урне, то ли к девушке, то ли к судьбе-злодейке, — зайка моя любимая… Это мое… — тихо сказал он ничего не понимающей девушке, указав на разбитую урну. — У меня украли…
Девушка присела рядом с ним на корточки и очень серьезно произнесла:
— Вот и хорошо, что нашлось, иначе и быть не могло. Надо собрать. Ждите меня здесь, я сейчас…
Через несколько минут она, запыхавшаяся от быстрого бега, вернулась с пустой литровой банкой из-под маминой клубники.
— Вот… — Она протянула ее Герке. — Пожалуйста… ваша банка… для сбора… Я взяла, чтобы на потом здесь оставить, за Борисоглеб Карлычевым памятником, на весну чтоб…
Не вставая с земли, Гера взял банку в руки и задержал ее в ладонях…