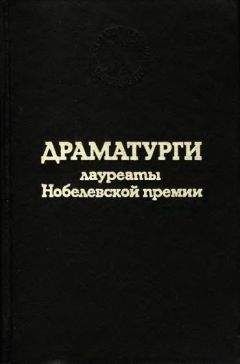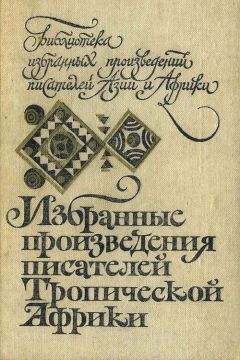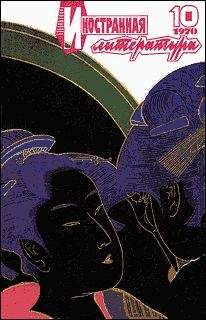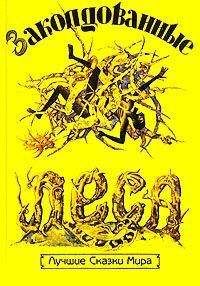Андрей Кивинов - Петербург - нуар. Рассказы
— Вон уже сколько воды натекло, надо торопиться… Так что?.. и скрипку не брать? Сидишь в своей норе, и вроде все тебе надо. А выйдешь — к чему это барахло? Только статуэтку упакую, балерину фарфоровую, надо пыль с нее стереть и завернуть в газету… полно у нас тут балерин, Мариинский театр рядом, там как заведенные они, а эта всегда сидит грустная, неживая, будто больная. Черт побери! Отбилась ножка! Ах ты… И музыка звучит слишком громко, уши уже болят, красивая музыка, кто играет, не знаю, — там, наверху… или я схожу с ума, потому что ум — это границы, их пора стереть… да нет, это пыль, пыль пора стереть… А вода течет, рекой течет, мне уже на стул, что ли, забраться. Да не увлечет меня стремительный поток вод, не поглотит пучина, не затворит надо мною пропасть зева своего… Пасть ненасытную свою за мной не захлопнет…
Вот они думают, что меня закрыли… странные люди, как будто меня еще можно закрыть. Видите, наводнение началось, нужно торопиться, за вещами пришлю. Так много страшного, что уже не надо бояться. Я уезжаю, да, я говорила — за вещами пришлю, только вот надо Машеньке передать. Вот так надо сказать ей: «Маша, танцуй!»
Маша! Слышишь, Маша? Танцуй! Танцуй, Маша, — иначе пропадем.
Сева как раз остановился, чтобы вытащить сигареты, когда сверху на него упало грузное тело. Он ударился головой о землю и уже ничего не видел, только почувствовал, как стремительный мощный поток повлек его за собой.
Комичная смерть большого начальника, убитого вывалившейся из окна старухой — впрочем, грех ее так называть, ей не было и шестидесяти, — на некоторое время развлекла читателей газет.
Машу так и не нашли и записали ее в без вести пропавшие.
Юлия Беломлинская
ПРИЗРАК ОПЕРЫ НАВСЕГДА
— Любите вы уличное пение? — обратился вдруг Раскольников к одному, уже немолодому прохожему, стоявшему рядом с ним у шарманки и имевшему вид фланера. Тот дико посмотрел и удивился. — Я люблю, — продолжал Раскольников, но с таким видом, как будто вовсе не об уличном пении говорил, — я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные липа; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру; знаете? А сквозь него фонари с газом блистают…
ДостоевскийЭто мой район и мой город,
Потому поднят повыше мой ворот,
Потому на мне немаркие боты,
Я отсюда — у нас так,
Что ты, что ты![1]
Мы шли по Итальянской улице.
Итальянская улица была пуста.
Полпятого — самое непопулярное время для белой ночи.
Все ее кареты превращаются в тыквы.
Кучера в крыс.
Хрустальные башмаки — падают и бьются.
Бальное платье оказывается испачкано золой.
Тыквы стремительно катятся к мостам.
Крысы — заряжают по полной и всячески выябываются.
Всем хочется уже домой, но «мостовики» и «метрошники» — заперты.
Начинается утренний озноб.
Уже везде лужи блева и осколки пивных бутылок.
Время поливальных машин еще не пришло.
Метро закрыто еще час.
Но мы были как раз местные — ребята с района.
Мы уже давно привыкли, что, выйдя элементарно заплатить за свет на Миллионную, натыкаешься на атлантов, которые держат небо.
Пойдешь прямо — упрешься в Эрмитаж.
Налево — дворы Капеллы.
Направо Казанский собор…
«А зачем тебе Исаакиевский? Ссы тут!»
Мой спутник Леха Саксофон окончательно осознал «щасте жить на центру и тусить на районе».
И сочинил эту радостную песню.
Теперь мы громко пели ее на пустой площади.
А это, парень, мой район и мой город,
Потому поднят повыше мой ворот,
Потому на мне немаркие боты,
Мы такие, у нас так,
Что ты, что ты!
«Давай, Леха, крути. Скрути сразу парочку, хорошо же тут, Пушкин ручкой машет… мы ему пяточку оставим… лучшему поэту — лучшую пяточку!»
Мы уже сидели на скамейке и глядели на Пушкина.
Бомжи, которые собираются в сквере под памятником Достоевскому, на Достоевской называются «достоевцы», а те, что под Пушкиным, на Пушкинской — «пушкинцы». А тут у нас вообще никого… полпятого, время-то детское — и никого.
Золотой Треугольник. Здесь никогда ничего не происходит…
Два года назад прямо у «Европы» грабанули английского консула, и с тех пор — тихо. На крышу Малегота[2] должен выходить каждую ночь Призрак Оперы и кричать, как муэдзин: «В Золотом Треугольнике все спокойно!»
Хотя именно на этой крыше с одним моим приятелем в прошедшую зиму что-то произошло…
Это был Миша Бакалейщиков — Человек Из Прошлого…
Человек Из Прошлого должен приезжать в Город Своей Юности, искать Прошлое… Это нормальный ход для пижона.
Я ему даже завидую. Он навеки вернулся в Маленький Зеленый Городок Своего Детства. В зеленый от плесени городок своего детства…
Однажды он спас меня. Мне было пятнадцать.
Мы тогда впервые вышли на Невский — заработать.
Три семиклассницы. У Сони была скрипка У Мани — кларнет.
А у меня — губная гармошка. И черная шляпа для денег. А кругом — глухая советская власть. Мы успели простоять там минуты четыре. А потом нас взяли под руки и повели… нет, не менты. Люди Феки. Менты никого не трогали…
Пока люди Феки не давали им отмашку.
Люди Феки — хорошо звучит, да?
Это как «люди Флинта». В «Острове сокровищ» Джон Сильвер спрашивает: «Где люди Флинта?»
И потом, именно еще, в «Бригантине»:
Вьется по ветру Веселый Роджер —
Люди Флинта песенку поют…
Мы все это пели в пионерском возрасте, «Бригантина» — это было очень важно.
В Флибустьерском Дальнем Синем Море она поднимала паруса.
И как-то это соединилось с Алыми Парусами.
Так назывались всякие кафе.
Клубы молодежного досуга.
Пионерские отряды.
«Алые Паруса». Или «Бригантина». Или «Романтика». Такая вот была наша романтика…
А потом как-то вдруг оказалось, что Флибустьерское Море вовсе не дальнее — оно раскинулось прямо у нас, на берегах Невы.
И все Люди Флинта оказались здесь.
Приплыли на Алых Парусах. Или прямо тут выросли. Из тины и сырости…
Они вызывали у подростков восторг и трепет.
Люди Феки — это было очень круто.
Корсары, бля. Корсары, бля. Корсары.
Нам казалось, что они противостоят власти.
Что они — не хуже диссидентов, борцы и герои.
На самом деле, не знаю, как на Москве, а тут, в Питере, их отношения с властью были именно такие, как у настоящих корсаров.
Власть давно уже кормилась с их разбоя.
В Питере вся ментура была прикормлена.
Саша Башлачев когда-то сочинил такую метафору про нас и Запад:
Вы всё — между ложкой и ложью,
А мы всё между волком и вошью.
Волками были вот эти наши корсары.
Вошью, наверное, можно назвать тогдашнюю гэбуху.
Которая охотилась не за реальными преступниками, а за сраной богемой.
Вполне вшивенькое занятие — ловить поэтов. Ну и за косячок тогда давали десятку…
А Волки… это не были привычные уголовники.
Это был наш Молодой Капитализм.
Наше Начинающее Бутлегерство.
В нашем Северном Старом Чикаго.
Фарцовщики одевали народ.
Валютчицы учили камасутре.
Цеховики осваивали производство.
Где-нибудь в недрах Купчина простые советские люди лили саксонский фарфор пятнадцатого века Даже то, что фарфор был изобретен в шестнадцатом, их не останавливало.
Ну, понятное дело, любые поэты этому Подводному Царству были ни хуя не нужны.
А вот художникам и музыкантам — иногда находилась работа.
Кто-то должен был рисовать все эти трафареты, эскизы — в общем, дизайнерство. А музыканты обслуживали досуг.
Жизнь корсара проста: в море бой, а на берегу вечный праздник.
То есть кабак с музоном и телками.
Так что, если художники обслуживали цеховое производство, то есть Морской Бой, то на долю музыкантов приходилось обслуживание Вечного Праздника.
Много народу работало по кабакам. И я пела в кабаке с шестнадцати…
Именно тогда, в те годы, можно было все. Потому что ничего было нельзя. И законы ни хуя не работали. Я стала петь через полтора года после того выхода на Невский… Тогда корсары нас взяли под белы руки и повели. И привели в «Ольстер», там у Феки был порт приписки. Там сидели все люди Флинта каждый вечер.