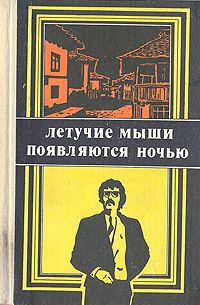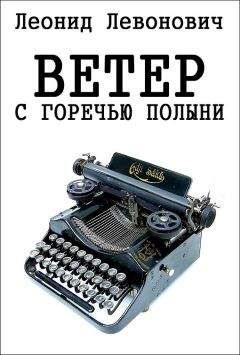Анатолий Байбородин - Не родит сокола сова
Варуша согласно вздыхала на материны слова, нет-нет да и тревожно косясь на своего мужика, который опять взялся за катанок и, нервно протыкая подошву крючком, отмашисто выдергивая просмоленную варом постегонку, виновато помалкивал и не подымал глаз.
Спать Ванюшку кладут на пол рядом с Пашкой и Сашкой, которые, набегавшись, спят без задних ног, во сне прижимаясь друг к другу. А Ванюшка долго не может заснуть; вспоминается ему опять лесной кордон, кока Ваня, видится лето, когда отец с матерью мирно косили сено.
6
…Жаркий полдень, в мутно-белесом мираже назойливо гудят пауты. Раздраженно отмахиваясь от них, Ванюшка сидит на кочке, буйно заросшей осокой, и, опустив на веревочке банку с хлебным мякишем, ловит в неглубоком уловке гальянов. Обволакивает теплый запах тальниковой прели с привкусом рыбьей слизи — это, кажется, от гальянов, тучами стоящих вокруг стеклянной банки и сломя голову кидающихся то на опавшую с черемухового куста пересохшую ягоду, то на тонущего жучка или скачка-кузнечика. Возле Ванюшки, в тени корявого листвяка, склоненного к речке, посиживает на кукурках сестра Танька; позабыв про ведра и коромысло, азартно сопит прямо над Ванюшкиным ухом, душно дышит в его голое, облезлое плечо, а когда первые гальяны суются в банку, треплют хлебное крошево, дергает брата за майчонку: дескать, тяни, тяни!.. и готова сама чуть ли не в платье кинуться в реку. Ванюшка, не оборачиваясь, показывает ей крепенький кулачок, затем, оглянувшись, круглит большие, нестерпимо страшные глаза, отчего Танька испуганно обмирает и опять затихает. В банку лезет мелюзга, пирует, шиньгает крошки, но, ткнувшись в стекло, поучуяв западню, мечется в банке и пулей вылетает в дырку, прорезанную в крышке из сосновой коры. Ванюшка — рыбацкая краснобаевская родова — не спешит дергать, скрадывает гальяна покрупнее, который в отличие от заполошной, жадной мелюзги пока еще хоронится в темно-зеленой тени от коряги, пока еще раздумчиво шевелит хвостом и плавниками. В воде он кажется целой рыбиной, и Ванюшка, прожигая его напористым, просящим взглядом, пихает и пихает к банке, но тот колеблется, насмешливо следит за пирующей мелюзгой.
Тишь и блаженство кругом; Уда извилисто и узенько струится среди высоких трав, среди кочек в осоке, черемушника и тальника, то нежно прижмется к таежному хребту, то вновь увильнет в глубь распадка, чуть слышно журча на перекатах, где искрится чешуей дробный солнечный свет. Тронутая негаданным ветерком, всплескивается коротким шепотком листва, из нее выскальзывают стрижи и, чиркая крыльями по воде, летят к другому берегу, скрываются в норках, издырявивших песчаный обрыв. А из-за обрыва, с широкой приречной редки, долетают лязг конной сенокосилки, властный голос отца, понукающего Гнедуху. На релке отец с матерью, кока Ваня со своей Дулмой косят сено, и, поднимаясь на ноги, Ванюшка там-сям видит вершины копен, которые они с матерью скоро будут свозить в одно сухое и высокое место. Ванюшка будет сидеть на отцовской Гнедухе и ждать, когда мать обвяжет очередную копну и понужнет кобыленку, а уж там отец с кокой Ваней начнут метать зарод.
В речку следом за Майкой забредают коровы, пьют, размеренно охлестывая себя мокрыми хвостами, отпугивая надоевших паутов и, напившись, глядят в речку, то ли завороженные течью воды или ползущими среди галечника песчаными струйками и мелькающими в этих струйках гальянами, то ли засмотревшись на свои отраженья в реке; потом стряхнув сонное оцепенение, так что с мокрых губ летят брызги, бредут по перекату на другой берег.
— Таньк!.. Беги заверни — на покос пошли! — быстро шепчет Ванюшка, боясь, что полный голос распугает рыбу.—Беги, беги! А то опять папка будет ругаться.
— Тебе велели смотреть, сам и беги. Нашел дурочку. А я порыбачу.
Ванюшка сердито и просяще смотрит на нее, во взгляде его столько неожиданно проснувшейся мужской власти, что Танька тут же вскидывается с корточек и, подхватив коромысло, с криком бежит к стаду.
А крупный гальян, едва подгребя плавничками, вороша мелконький песок и редкие подводные былки, приближается к банке, и Ванюшка опять манит его потрескивающим, пересохшим шепотком, азартно облизывая обметанные жаром губы. И-и-и, вот он!.. есть!.. — вода взметывается, серебристые брызги, дав короткую радужку, повисают над речкой, банка шлепается в осоку. Тут же прибегает Танька и, визжа, хлопая в ладоши, приплясывает то на одной, то на другой ноге, кружится, пытаясь разглядеть гальяна в густой и высокой траве, но Ванюшка прыжком опережает ее и падает животом на добычу. Показавшийся в воде здоровенным, на воздухе гальян оказывается задохликом чуть больше пальца. Ну, ничего, на безрыбье и это рыба, — размышляет Ванюшка, цепляя его на тальниковый кукан, который, связав кольцом, крепит за корягу и опускает в речку.
Таньке вскоре надоедает рыбалка — девчонка она и есть девчонка, тем более брат лишь раз и дал подержать поводок и выдернуть трех гальянчиков, — и она, набрав воды, показав напоследок язык, уходит в сторожку коки Вани, где в это время посиживает с ребятишками старая бурятка, теща коки Вани.
Закусив размоченной в Уде лепешкой, Ванюшка рыбачит до самого темна.
— Ой да ты, сына, какой у нас добычливай-то, а! — умильно склонив голову на плечо, всплескивает мать руками, когда сын является с полным куканом гальянчиков и прямо с порога велит варить уху. — Да хрушкая все какая, и в чугунку не влезет, тут надо целую жаровню,—приговаривает мать.
— Рыба-ак, елки зелены! — подхватывает кока Ваня.
— И не говорь, брат.
— Есть, видно, талан. В отца пошел. Отец – рыбак, и сын в воду смотрит… Мы с Петром как-то на Большой Еравне, подле Гарама окуней удили… прошлым летом, кажись… ну и, паря, чо, елки-моталки, я, значит, сижу, и у меня хоть бы шелохнуло, удочки как мертвые на борту лежат, а отец ваш тянет да тянет. Меня аж завидки берут. Я перебираюсь по лодке ближе к корме и свою удочку возле отцовской кидаю. И всё, елки, не тянет и не тянет, хошь ревом реви. И рядом-то лодки, и мужики тоже сидят кемарят, ловят в час по чайной ложке. Некоторые, елки, давай поближе к нам подплывать, — видят же, что отец-то ваш одного за другим выворачиват. До обеда, кажись, просидели, у него ведро с верхом, а у меня едва дно прикрыто, — с десяток окуней поймал. Во каки дела… Не-е, паря, кто вашего отца переудит, тот ишо не родился. Вот разве что Ванюшка…
7
Тихо вечереет, меркнут желтоватые стены избушки, в глубокие пазы насачивается загустевшая тень, резче обозначая толстые, нетесаные венцы; всё семейство после вечерней гребли сидит за дощатым столом, потягивая зеленый чаек, забеленный козьим молоком, который Дулма подливает и подливает в толстые фарфоровые чашки, черпая его из ведерного котла. Остатний вечерний свет теплится на плосковатом лице Дулмы, загадочно черня и без того черные, большие глаза, немного вытянутые и вздернутые к вискам. Она все время молчит. Ванюшка как будто и не слышал ее голоса, и было непонятно, что ее радует в жизни, что печалит, — лицо занемело. Но кажется, что вот сейчас она додумает свою протяжную думу, прояснеет лицом, улыбнется всем виновато и заговорит о простом, житейском; но, видно, думушке ее еще далеко было до края. Хотя, конечно, можно и без слов понять ее.
Первого мужика Дулмы, известного на весь Еравнинский аймак охотника, спящим в балагане из елового лапника, задрал мстительный медведь, — бахалдэ, как его на бурятский лад звали и русские, – а Дулма, едва вызревшая женка (муж был постарше лет на десять), оставшись с двумя малыми на руках, смотрела теперь на жизнь, текущую по-таежному чуть приметно, с довременной мудрой и молчаливой снисходительностью.
Поначалу это тяготило Краснобаевых — как жить под одной крышей да словом не обмолвиться?! — и мать пыталась по-бабьи что-то выведать, отец пробовал побалакать с ней по-бурятски, но Дулма на это лишь ласково, снисходительно улыбалась и отвечала коротко, односложно, и всегда по-русски. По-русски же и говорила с ребятишками: с двумя толстенькими хубунятами от первого мужика и веселыми близняшками от Ивана. Постепенно Краснобаевы обвыклись со своей неговорливой родственницей, тем более та оказалась на редкость услужливой и без всякой подсказки сразу понимала, где надо подсобить, а где лучше не мешать, не лезть под горячу руку. Но мать все равно диву давалась: и как это брат, такой уж русский из себя, такой балагуристый, сошелся с этой букой степной?! Или уж позарился на красу да молодость той?.. На обличку, вопреки отцовским насмешкам, Дулма и по-русски, и по-бурятски была приглядиста: с прямым носом, открытыми глазами, с мягким и смуглым румянцем на плитчатых скулах, с толстенной смоляной косой, лежащей на спине, повторяя ее плавный, протяжный изгиб. Мать, конечно, не пытала Ивана про судьбу, какая свела их с Дулмой, но тот сам, оказавшись с глазу на глаз со своей сестреницей, кое-что поведал.