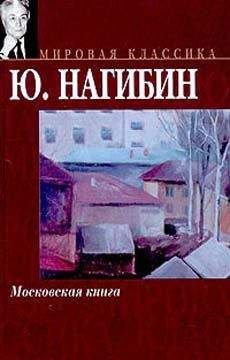Юрий Арабов - Орлеан
Однако сейчас доктор Хаммер струхнул. Вождь говорил о загадочном аннулировании, и молодой человек принял это на свой счет.
— Россия и Америка дополняют друг друга, как муж и жена, — сказал посетитель выспренно, оттого что страх скрутил его солнечное сплетение до размеров молекулы. — У вас есть полезные ископаемые и дешевая рабочая сила. У нас — технология и организация производства. Что еще нужно для успеха?
— Я знаю, что вы мечтаете о концессии. Вам приглянулись асбестовые рудники, — пробормотал Ленин, проявляя осведомленность. — Но ведь асбест — это еще не все. Что вам нужно кроме него?
— Ничего. Я хочу дать России все, на что способен, асбест — это только начало. Я… — Молодой человек запнулся, и взгляд его упал на карандаш, лежащий на столе. — Я… я построю вам карандашную фабрику!
Ленин с любопытством посмотрел на него. Ему показалось, что перед ним сидит жулик, разыгрывающий бизнесмена, но с этого жулика в условиях экономической блокады было что взять.
— Карандаши — это архиважно, — согласился Ильич. — НЭП скоро раскрутит нашу экономику, и карандаши нам понадобятся неимоверно. Много хороших и быстрых карандашей.
Импровизация удалась, и архимедов рычаг был найден. Через пробитую стену недоверия молодой человек увидал глаза Старика: они начали светиться нездешней космической добротой.
— Правильно ли я понимаю, что НЭП — это частичная реставрация капитализма? — осторожно спросил доктор Хаммер.
— Не реставрация, а построение. Настоящего капитализма у нас никогда не было, — признался Ленин себе под нос, рассматривая страницу немецкой газеты.
Доктор Хаммер не понял, шутит ли он или говорит серьезно. Молодой бизнесмен ехал в страну победившего коммунизма, а она на его глазах вдруг вывернулась наизнанку, и вождь пролетариата вдруг оказался вождем нарождающейся буржуазии… Было отчего пошатнуться умом. Ему даже показалось, что перед ним стоит Гудвин из страны Оз, играющий чуждую для него роль и тщательно скрывающий лицо перед своими же товарищами.
— Могу ли я понимать вас так, что американскому капиталу в России будут оказаны преференции? — осторожно спросил гость.
— Можете, — ответил Ленин. — Рабочих накормите?
— Накормим, — опрометчиво пообещал доктор Хаммер. — Пароходы с зерном уже в пути.
— Больницы построите?
— Сделаем. А что потом?
— А потом… Потом мы заложим американские города, которые будут лучше ваших, — произнес Ленин странным глухим голосом, как будто говорил через дремоту. — Лет через десять-пятнадцать они уже появятся. В них вырастет культурный образованный пролетариат, который, окрепнув, возьмет управление государством в свои руки. И государства больше не будет, потому что государством станут сами люди. Ничего больше не будет. Ничего не останется…. — Голос его стал тихим и еле слышным.
— Значит, свобода через капитализм? — решил уточнить доктор Хаммер.
— Свобода через суровую диктатуру. Это диалектика. Эх, да вы все равно ничего не поймете! — махнул рукой Ильич, произнеся последнюю фразу по-русски.
Он как будто скинул с себя минутную слабость и попытался снова стать энергичным, бодрым и злым.
Молодой человек кивнул на всякий случай, хотя прекрасно знал, что никакой пролетариат в его Америке не был допущен к государственному управлению и в ближайшие сто лет это ему не светило. Почему через НЭП возникнет какая-то особая самоорганизация, превышающая американскую, это оставалось великой тайной пролетарского Старика.
— А какая вам вообще от нас польза? — вдруг спросил Ленин. — Вы что, хотите сделать на асбесте миллионы?
— Как пойдет дело. Не знаю, — ушел от ответа Хаммер.
— И на карандашах больших денег не сделаешь. Тогда что же? Что вы хотите у нас хапнуть? — поинтересовался Ильич запросто, как будто сидел с бизнесменом за одним столиком в каком-нибудь Цюрихе или Женеве.
— Я вообще-то поклонник антиквариата… — тихо и с усилием сказал доктор Хаммер, но дальше продолжать не стал.
В его голове сидела несколько лет странная мысль, похожая на манию. Появилась она после того, как в одной из американских газет он увидел фотографию проломленной стены Зимнего дворца. Подпись под фотографией гласила, что это след от снаряда крейсера «Аврора», расстрелявшего Эрмитаж прямой наводкой. Ниже была помещена заметка, в которой говорилось о тотальном разграблении музейных коллекций городской беднотой, проникшей через этот разлом. Сейчас, конечно, через четыре года после судьбоносных событий о подобном обогащении посредством штурма не могло быть и речи. Хотя в Эрмитаже, наверное, сохранились вещи, не имевшие исторической ценности, но которые можно было пустить в дело. Например, старые ковровые дорожки. Кому они были нужны, кроме моли? Можно их вывезти в США и сшить, положим, домашнюю обувь. «Царские тапочки от доктора Хаммера!» Звучит? Не просто звучит, а это хит сезона!
— Так что же насчет антиквариата? — продолжал пытать Ленин.
— Нет… Антиквариат мне не нужен, — с усилием пробормотал молодой человек, потому что врал и язык его поворачивался с трудом. — Я не могу отбирать у русского пролетариата культурные ценности. А вот, например, иконы… — Он запнулся.
— Иконы?! — с веселым удивлением переспросил Ильич.
— Без окладов. Одни деревяшки, — просительно выдохнул доктор Хаммер. — Они весьма интересны… Интересны с этнографической точки зрения.
— Нелепые картинки деревенских богомазов, не получивших специального академического образования? Интересны? — очень явственно, почти по слогам осведомился вождь.
— Да. Они мне нравятся… — выдавил из себя молодой человек.
— Сейчас. Я напишу записку, — пробормотал Ильич, подавляя в себе приступ хохота.
Он взбодрился. Слабость и потливость, которые мучили его уже несколько дней, неожиданно прошли. Он понял, что перед ним сидит сибирский валенок, пусть и американского производства. В асбесте гость кое-что понимает, но в живописи, конечно, ни в зуб ногой. И даже не скрывает своей серости, своего полного незнания искусства как такового.
— Пойдете к товарищу Горбунову, и он вам отсыплет сколько захотите, — сказал Ленин. — Но только без окладов. Оклады пошли на помощь голодающим.
— Да, спасибо. Оклады мне и не нужны, — согласился доктор Хаммер, принимая записку. Он был на седьмом небе от счастья.
— Когда составите контракт на концессию с нашими юристами, мы сразу же одобрим его в Совете Народных Комиссаров… Вы будете первым из зарубежных капиталистов, кто будет работать на нас. Поздравляю.
Все происходило с катастрофической быстротой. Однако, услышав слово «контракт», молодой человек затуманился, и затмение ума, происшедшее с ним, не ускользнуло от внимания Ильича.
— Бюрократия? — весело осведомился Ленин, называя предмет, который напугал наивного американца. — Вы боитесь наших кувшинных рыл, которые будут ставить палки в колеса?
— Боюсь, — признался доктор Хаммер.
— И я боюсь, — согласился с ним Ильич. — Но мы их обыграем. Я к вам приставлю чекистов. — И он энергично рубанул ладонью пустой воздух.
— Чекистов? — повторил доктор Хаммер, не веря своим ушам.
— Именно. С ними дело пойдет веселее. Один будет связан с рабоче-крестьянской инспекцией, а другой напрямую — с Всероссийской чрезвычайкой. Всего два человека. Но отборных. Отборных двое… Сами же мне потом спасибо скажете. Двое. Очень мало. С пользой для дела…
Голос его стал глух. Вслед за короткой вспышкой энергии и веселья последовало другое: кислород вдруг вышел из воздушного шара и весь экипаж начал падать на землю с катастрофической быстротой.
— О деталях не беспокойтесь. Я обо всем позабочусь. Идите…
На лбу его выступил пот. Ленин вложил в руку молодого человека кусочек картона, и тот вышел из кабинета в частичной прострации. «Какие чекисты? — подумал он. — Зачем мне чекисты? Чтобы меня расстрелять?»
Он разжал ладонь. В ней оказалась скромная визитка с выдавленной надписью, сделанной мелким невыразительным шрифтом: «Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Председатель Совнаркома Р.С.Ф.С.Р.»
Приемная Ильича показалась ему мрачной. Мадаполам на окнах почему-то напомнил склеп. Горбунья Гляссер смотрела на него с вожделением. Все окончилось не совсем так, как он задумал.
Ленин же тем временем накрутил вертушку и сказал в трубку слабым голосом смертельно уставшего человека:
— Девушка, соедините меня с Феликсом Эдмундовичем.
3Дзержинский приехал к Ильичу в начале третьего дня. Одернув на спине гимнастерку, он вошел в кабинет с меланхоличным выражением водянистых глаз, которые многих располагали к нему лично. Человек с такими глазами, конечно же, знал и понимал все. Знал литературу. Разделял кантовский императив. Был снисходителен к человеку как таковому, потому что догадывался о его хрупкости. Худоба говорила об аскетизме. Продолговатое лицо напоминало то ли Дон Кихота, то ли Христа, если бы тот вдруг пошел на государственную службу. Феликс имел вид оголенной совести. И только проработав с ним некоторое время, люди понимали, что совесть эта какая-то странная, жестокая, совесть не только к себе, что было бы нормально, но к окружающим, и никогда не поймешь, что имеют в виду эти меланхоличные глаза: исступленное добро, которое он насаживал силой вокруг себя, или просто жгучую отрыжку, терзавшую постоянно его больной желудок.