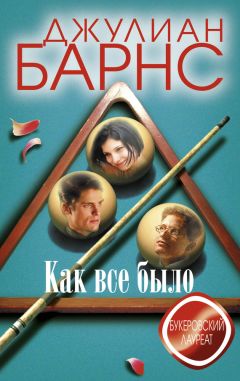Джулиан Барнс - Шум времени
Своим домашним он велел не хлопотать насчет его «бессмертия». Музыка должна исполняться благодаря своим достоинствам, а не памятным мероприятиям. Его порог нынче обивало множество просителей, и среди них – вдова одного именитого композитора. «Муж умер, и никого у меня не осталось», – рефреном повторяла женщина, считая, что Дмитрию Дмитриевичу достаточно «только снять трубочку» и распорядиться, чтобы тот или иной музыкант начал исполнять сочинения ее покойного мужа. Неоднократно он так и поступал: сначала из сочувствия и вежливости, потом – просто чтобы отделаться. Но просительнице было мало. «Муж умер, и никого у меня не осталось». А посему он раз за разом «снимал трубочку».
Но настал день, когда эта нестерпимая фраза вызвала у него более чем нестерпимую досаду. И он возьми и скажи: «Да… да… А вот у Иоганна Себастьяна Баха было два десятка детей, и все они продвигали его музыку».
– Вот-вот, – подхватила вдова. – Его до сих пор исполняют! А я-то одна, совсем одна.
Надеялся он на то, что смерть освободит его музыку: освободит от жизни. Минует время, музыковеды по-прежнему будут ломать копья, а его произведения начнут говорить сами за себя. События, равно как и жизнеописания, постепенно уйдут в прошлое: возможно, когда-нибудь фашизм и коммунизм останутся только в учебниках. Вот тогда его музыка, если сохранится в ней хоть какая-то ценность… если сохранится у кого-нибудь чуткий слух… тогда его музыка будет… просто музыкой. А композитору ничего другого и не нужно. Кому принадлежит искусство, спросил он перепуганную студентку, и, притом что ответ был начертан аршинными буквами на транспаранте над головой ее мучителя, девушка не смогла ответить. Но правильным ответом была невозможность ответа. Ни прибавить, ни убавить.
Того вокзального нищего наверняка давным-давно нет в живых, а Дмитрий Дмитриевич почти сразу забыл, что сказал на перроне. Но тот, чьего имени история не сохранила, запомнил. Уловил суть, понял. Их поезд задержался посреди России, посреди войны, посреди многострадального лихолетья. Только что взошло солнце. Вдоль длинного перрона катил на тележке, привязав себя к раме веревкой, инвалид – можно сказать, ополовиненный. У двоих пассажиров была припасена бутылка водки. Вышли они из вагона. Нищий прервал свою разухабистую песню. Один вынес бутылку, другой – стаканы. Разливал Дмитрий Дмитриевич; из-под рукава выглянула подвешенная на нитке чесночная долька. Глазомер немного подкачал: водки в стаканах оказалось слегка не поровну. Нищий видел только льющуюся струю; а композитор думал о том, как Митя всегда бросался на помощь другим, а себе помочь – такова уж его планида – не умел. При этом Дмитрий Дмитриевич слушал – и, как всегда, услышал. Когда три стакана, налитые до разных отметок, сдвинулись и звякнули, он улыбнулся, склонил голову набок, так что в линзах очков сверкнуло солнце, и шепнул:
– Тоническое трезвучие.
Кто на ус мотал, тот запомнил. Война, страх, нищета, тиф, грязь – и сквозь громаду всего, ниже, выше и посреди, Дмитрий Дмитриевич услышал идеальное трезвучие. Война – сомнений нет – завершится, если, конечно, война по сути своей не вечна. Страх останется, равно как и незваная смерть, и нищета, и грязь – кто знает, может, им тоже нет конца. Но тоническое трезвучие, рождаемое даже там, где сдвинулись три грязноватых, по-разному наполненных стакана, заглушит собою шум времени, обещая пережить всех и вся. Наверное, в конечном счете это и есть самое главное.
От автора
Шостакович ушел из жизни девятого августа тысяча девятьсот семьдесят пятого, за пять месяцев до наступления очередного високосного года.
Николай Набоков, его мучитель на нью-йоркском Конгрессе сторонников мира, действительно находился на содержании ЦРУ. Когда Стравинский отказался от участия в конгрессе, им двигали не только «этические и эстетические причины», как утверждалось в его телеграмме, но и политические. По словам его биографа Стивена Уолша, «как и все белоэмигранты в послевоенной Америке, Стравинский… безусловно, не собирался ставить под удар свою с трудом завоеванную репутацию лояльного американца, выказывая хоть малейшую поддержку начинаниям, связанным с прокоммунистической агитацией».
Тихон Хренников, вопреки опасениям Шостаковича (они – плод моей фантазии), оказался не бессмертным, но вплотную подошел к бессмертию: он оставался бессменным первым секретарем Союза композиторов СССР, с момента его возрождения в 1948 году и до распада, связанного с распадом Советского Союза в девяносто первом. Начиная с сорок восьмого года Хренников сорок восемь лет давал приглаженные, обтекаемые интервью, утверждая, что Шостаковичу, человеку жизнелюбивому, бояться нечего. («И волчьей клятвой утверждаю…» – съязвил композитор Владимир Рубин.) Хренников всегда оставался на плаву и хранил верность властям предержащим: в две тысячи третьем году он получил государственную награду из рук Владимира Путина. Тихон Николаевич дожил до девяноста четырех лет и умер в две тысячи седьмом.
Шостакович был многоликим рассказчиком своей судьбы. Одни эпизоды отражены у него в разных версиях, которые создавались и «оттачивались» годами. Другие – например, то, что произошло с ним в ленинградском Большом доме, – существуют в единственной версии, которая много лет спустя после смерти композитора пересказывается по одному и тому же источнику. Вообще говоря, в сталинскую эпоху выяснить правду было нелегко, а отстоять – тем более. Даже сами имена от неуверенности видоизменяются: например, следователь, который допрашивал Шостаковича в Большом доме, именуется то Занчевским, то Закревским, то Заковским. Для биографа-документалиста это чума, для романиста – находка.
Шостаковичу посвящена обширная библиография; музыковеды обычно выделяют два основных источника – подробный, многогранный труд Элизабет Уилсон «Shostakovich: A Life Remembered» (1994; переиздание, с исправлениями, 2006) и книга С. Волкова «Testimony: The Memoirs of Shostakovich as Related to Solomon Volkov» (1979) – воспоминания Шостаковича, записанные с его слов. Публикация книги Волкова вызвала эффект разорвавшейся бомбы как на Западе, так и в социалистическом лагере, став причиной «шостаковичских войн», не утихавших на протяжении десятилетий. Я рассматривал его книгу как дневниковые записи, которые, казалось бы, не отступают от истины, однако сделаны, как водится, непосредственно после описанных событий, в соответствующем настроении, через призму заблуждений и упущений тех лет. Другие ценные источники включают «Историю одной дружбы» Исаака Гликмана (2001), а также сборник интервью с детьми композитора, составленный Михаилом Ардовым и опубликованный под заглавием «Вспоминая Шостаковича» (2004).
Среди тех, кто помогал мне в работе над этой книгой, отмечу в первую очередь Элизабет Уилсон. Она поделилась со мной уникальными материалами, исправила ряд погрешностей и прочла верстку. Но авторство этой книги принадлежит мне; если вам не нравится, читайте Элизабет Уилсон.
Дж. Б. Май 2015 г.
Примечания
«Шум времени» — заглавие романа повторяет заглавие созданного в 1923 г. философско-автобиографического произведения О. Э. Мандельштама, в значительной степени посвященного музыке. В свою очередь, заглавие произведения Мандельштама отсылает к метафоре Александра Блока «музыка времени».
С. 14. Война-то была другая, да враги прежние, разве что имена поменялись, причем с двух сторон. – Например, песня «Священная война» («Вставай, страна огромная…») была написана еще в 1914 г. и первоначально звала на бой не с «фашистской», а с «германской силой темною». Кроме того, «многие полковые марши русских частей (особенно гвардейских) были заимствованы из прусской армии либо из произведений немецких композиторов. В частности: самый популярный т. н. „старый“ Егерский марш, который так любил Николай II, является маршем прусских егерей 1814 г.; полковым маршем Лейб-гвардии Кирасирского Ея Величества полка служил германский Хохенфридебергский марш» (Веремеев Ю. Песни Русской армии).
С. 15…горланил лихие куплеты про деревенские непотребства. – Имеется в виду песня, которую во время и после войны пели по вагонам инвалиды, прося подаяние якобы от лица обездоленных детей Льва Толстого. Тексты вагонных песен обычно воспринимались как народные (сейчас одним из авторов исходного текста называют Алексея Охрименко) и существовали во множестве вариантов. Например, в таком:
Однажды покойная мама К нему в сеновал забрела. Случилась ужасная драма, И мама меня родила.
В деревне той, Ясной Поляне, Теперь никого, ничего… Подайте ж, подайте, славяне, Я сын незаконный его!
Или в таком:
Однажды почтенная мама На графский пришла сеновал. Случилась там страшная драма, Граф маму изнасиловал.