Питер Бенсон - Две коровы и фургон дури
— Я зайду попозже. — Я бросил на Сэм последний взгляд и отправился в палату, к гадким запахам и грустным мыслям.
После обеда ко мне зашел врач, осмотрел ногу, почитал какие-то свои заметки и спросил меня:
— Ну-с, как мы себя чувствуем?
— Нормально, — сказал я, — но дома было бы намного лучше.
— Что же, — сказал доктор и что-то почеркал в блокноте, — думаю, утром мы сможем тебя выписать.
— Спасибо.
— Смотри в следующий раз не езди так быстро!
Я не стал говорить ему, что оказался в больнице вовсе не из-за того, что ехал слишком быстро. Я молча кивнул головой, проследил, как он выйдет из палаты и направится к сестринскому посту, а затем отвернулся и начал разглядывать занавески возле моей кровати. Они были желтые, их вид совсем не утешал.
А придя к Сэм, я и вовсе расстроился. Сестра сказала мне:
— Твоя подруга впала в кому, но возможно, она нас слышит. Хочешь посидеть с ней недолго и поговорить о чем-нибудь? Возможно, она чувствует и прикосновения…
— А что это такое — кома?
— Ну это как будто она спит, но только она не спит…
— Не понимаю.
— Она может проснуться в любой момент, через минуту, например… а может…
— Что?
— Не проснуться несколько недель.
— Или месяцев?
Сестра кивнула головой.
— Или вообще не проснуться?
— Этого я не знаю.
Я едва сдержался, чтобы не сказать что-нибудь язвительное типа: «А что вы вообще знаете?», но, к счастью, вовремя захлопнул рот. Я приказал себе молчать, не возражать, не спорить. Я не хотел, чтобы Сэм слышала, как я ругаюсь на ни в чем не повинную сестру, поэтому я молча кивнул, сел на стул рядом с кроватью, дотронулся до белой руки и тихо сказал:
— Привет, Сэм. Это я, Эллиот.
Я взглянул на сестру. Она улыбнулась мне и пошла назад к своему столу.
Я не представлял, что еще сказать. К тому же я ощущал неловкость и вину, поэтому не решился произносить слова вслух, а просто сидел рядом и гладил Сэм по руке. Я решил, что этого достаточно. Если она слышит, то знает: я здесь, если чувствует, то ощущает тепло моей руки. А если что-то видит в своей тьме, то пусть это будет поляна цветов под ослепительно-синим небом, полным птичьих голосов, и хрустально-чистая речка, что вьется между лесов и полей, где можно сесть на берегу и болтать ногами в прохладной воде. И может быть, все это утишит боль и поможет, станет надеждой и обещанием, и, держась за них, Сэм сможет вернуться ко мне обратно.
Я вернулся в палату и немного поспал, а может быть, и нет. Той ночью все казалось неправильным, лежать было неудобно, а спать вообще невозможно. В конце концов я опять отправился в отделение реанимации и посидел с Сэм еще с полчаса, а затем попрощался с ней и сказал, что скоро приду ее проведать. Утром я собрал вещи, подписал какие-то бумаги, и меня отвезли в Ашбритл. Водитель всю дорогу пытался разговаривать, но мне нечего было ему сказать. Я смотрел в окно на улицы, на дома, мимо которых мы проносились, а когда мы выехали из города и дома сменились изгородями и полями, я смотрел на них так же тупо. Я чувствовал себя таким же потерянным, как и раньше, но, кроме чувства ужаса и вины, внутри меня медленно нарастала ярость. Да, ярость, гнев, жажда мести, — они шли рука об руку с горем и со странным ноющим чувством, что все это происходит не со мной, что меня захлестнул кошмарный сон, который я сам придумал. Что за дурацкая идея! Я прогнал ее из головы палкой, забил до смерти на углу и повернулся к ней спиной.
Мама убрала мою комнату, застелила кровать свежим бельем, и на минуту я испугался, что сейчас начнется лекция на тему, как надо жить. Я уже приготовился выслушать подробный отчет о том, какие сигналы она утром прочитала в облаках, что пропели ей птицы и как странно выглядел кроличий помет, но она велела мне лечь и сказала, что принесет чаю. Я залез в постель, но не мог ни успокоиться, ни расслабиться. Мама села ко мне на кровать, расспросила про Сэм, и я рассказал ей все, что знал о коме. Мама постаралась ободрить меня, рассказала про один случай, о котором она прочла в газете: как девушка выпала из окна, ударилась головой об асфальт и тоже впала в кому. И как доктора говорили, что она не выживет, а она вышла из комы и позже стала знаменитой пианисткой.
— Медицина сейчас способна творить чудеса! — сказала мама.
— Да, я знаю…
— Ладно, я тоже постараюсь что-нибудь придумать.
— Для чего?
Мама загадочно постучала себя по носу.
— Потом скажу, когда придумаю. Главное, не волнуйся, Малыш.
Не волноваться? Я допил чай и уставился на зеленые поля и знакомые машины, но не волноваться не получалось. Наоборот, я волновался все больше. Я нервничал. Я трясся. Паника выедала из меня куски, откусывала, разжевывала, выплевывала и опять впивалась зубами. Я встал и пошел вниз, на кухню. Золушка замурлыкала, обошла вокруг моих ног, потерлась о брюки и отправилась на улицу греться на солнышке. Кто-то привез с поля мой мотоцикл, и теперь он стоял, прислоненный к отцовскому сараю.
Я вышел из дома вслед за кошкой и остановился рядом с байком. Переднее колесо было жутко смято, бензобак искорежен, зеркала разбиты. Я даже не представлял, с чего начинать ремонт, но все-таки решил попробовать и отправился в сарай. Внутри было душно, на стене висели садовые инструменты, около двери громоздились вставленные друг в друга цветочные горшки и мешок компоста. У окна стоял верстак, а на нем, в разной формы жестяных плошках и баночках, хранились болты, гайки, шурупы, гвозди, шайбы, крючки и разная металлическая мелочь. Ручной инструмент был разложен на деревянной полке. Я и сам не знал, что именно мне надо, наугад схватил какую-то деревянную коробку, открыл ее и наткнулся на россыпь металлических скобок, мотков проволоки и лески. Почему-то от вида этих жалких сокровищ мне стало так грустно, что я чуть не разрыдался. Я представил себе, как долго отец собирал этот не нужный никому мусор и как настанет день, когда мне придется самому разобрать его и выбросить большую часть на помойку.
Ну зачем ему понадобился ржавый кран, две треснутые пробковые плитки и неработающий велосипедный звонок? Или ботинок с дырой в подошве, мешочек, полный крышек от пластмассовых бутылок, и затвердевшая как камень малярная кисть с ручкой, замотанной обрывком веревки? Это что, ностальгия, или он действительно думает, что сможет возродить к жизни давно умершие вещи? Я не знал этого, но мне было не все равно, ведь этот сарай принадлежал отцу, даже воздух здесь был пронизан его духом, его чаяниями и надеждами. Сарай был его вотчиной, и поскольку отец не любил, когда посторонние копались в его вещах, я на всякий случай вышел на воздух, и вовремя — он как раз возвращался с поля. Пока отец не начал задавать мне вопросы, я быстро сказал:
— Извини, папа, я искал гаечный ключ.
— Зачем тебе?
— Вот… — Я мотнул головой в сторону «хонды».
— А, это… Хочешь, я починю твой мотоцикл, а, сын? Будет как новенький.
— А тебе не трудно?
— Нет, не волнуйся. Наоборот, будет чем заняться на досуге.
— Вот спасибо, папа.
— Ах да, звонил мистер Эванс. Сказал, что подождет, пока ты не поправишься.
— Он славный старик, — сказал я.
— А тебе я советую прислушаться к тому, что говорит мать, — назидательным тоном сказал отец. — Знаю, не всегда понятно, что она имеет в виду, но там у нее столько всякого творится, ты даже не представляешь! — Он постучал себя по лбу.
— Очень даже представляю, — сказал я, — и готов ее слушаться.
Тут отец, удовлетворенный, отправился полоть салат, а я пошел через поле к церкви и старому тису.
Старый тис. Я не раз слышал его рассказы, плач и жалобы. Его старинные напевы. Жуткие истории о кровавых ритуалах древности, о том, как его корни пили кровь, покуда ветви и сучья плели в воздухе свой узор. Когда-то к его стволам прибивали кишки живых людей, а их заставляли ходить вокруг ствола, метр за метром разматывая свой кишечник, и гудели тысячи пчел, и хохотали женщины, взывая к своим безумным богам, и дети стояли в ряд и пели хором, размахивая лентами. А боги смотрели на них и смеялись в ответ, кивали головами, довольные, и ждали следующего заклания. Текла кровь, завывали псы, ожидая поживы, и в воздухе стоял тошнотворный запах. Играла музыка — это звучали инструменты, давным-давно сломанные и сожженные. Багровый тис… Мне кажется, в те дни он и правда был багровый, но сейчас все вокруг было зеленым, тень дарила прохладу, а в ветвях пели птицы. Кто-то воткнул маленький букетик полевых цветов в растрескавшуюся кору, желтые и голубые головки успели поникнуть. Я тронул их пальцем, лепестки осыпались, а большие часы на фасаде церкви пробили полдень.
Комель нашего тиса полый, он расходится на шесть стволов. Даже в наше время люди приносят к нему больных младенцев, обносят вокруг, и младенцы выздоравливают. Я сел в середине между стволов, задрал голову и посмотрел наверх. Кора была слоистая, чешуйчатая, по ней бежали мелкие коричневые муравьи. Я тогда подумал, что, может быть, раз наше дерево помогает всем, кто в него верит, оно может помочь и мне. И если мозг Сэм умер, но ее тело продолжает жить, я мог бы привезти ее сюда, обнести вокруг стволов волшебного дерева и вылечить. А если привести сюда Спайка, его можно излечить от безумных идей. И всех злых, жестоких людей можно было бы смягчить одним видом этого дерева. А может быть, и нельзя. Не знаю. Жаль.


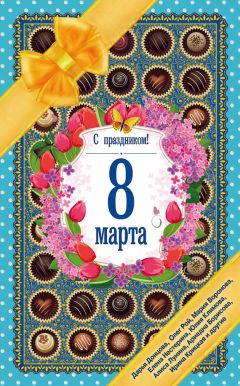
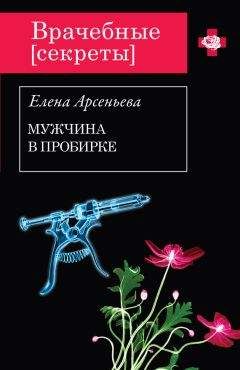
![Всеволод Фабричный - Вата и гвозди [сборник рассказов]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)