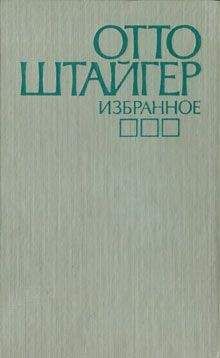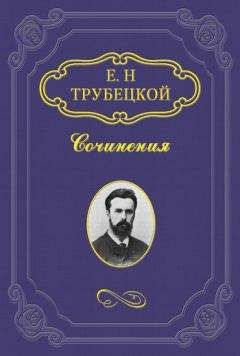Митчел Уилсон - Встреча на далеком меридиане
— Я?! — воскликнул Гончаров. — Я?
— Так мне казалось, — спокойно продолжал Ник. — Разумеется, все это смехотворное недоразумение, но, к сожалению, так будет повторяться снова и снова, пока мы не познакомимся друг с другом по-настоящему. Мы дышим воздухом нашей эпохи: пока мы вот так сидим за одним столом, каждый из нас видит в другом живого человека, и все же, стоит возникнуть недоразумению, пусть самому пустячному и безобидному, каждому начинает казаться, что перед ним символическая фигура. Между нами невидимым барьером встают все пугающие газетные заголовки, и американские и советские, и распространяют удушливый газ подозрительности. Я повторяю еще раз: я приехал сюда без всяких задних мыслей и без каких-либо обязательств. И вы должны в это поверить. В противном случае я уеду сразу же после моего доклада или, точнее говоря, в понедельник, когда кончится срок моей двухнедельной визы, чтобы это не вызвало никаких разговоров. Я говорю совершенно серьезно. Если вы считаете, что можете попасть из-за меня в неловкое положение, я уеду и избавлю вас от такой опасности. И я буду рад уехать — ведь в таком случае мы все равно не смогли бы сотрудничать. Либо мы с вами будем работать над проблемами физики, доверяя друг другу, либо распрощаемся и снова станем дружески переписываться с безопасного расстояния в пять тысяч миль. Так решайте же! Говорите прямо, без обиняков, я заранее согласен с любым вашим решением.
Гончаров впился в него холодным проницательным взглядом, а потом широко улыбнулся.
— Будем работать над проблемами физики, — сказал он, протягивая руку. О'кей?
— Карашо! — ответил Ник, пожимая ее. Он тоже улыбнулся и встал. — Когда будет известно, продлена ли виза?
— Не позже завтрашнего дня. Когда мы встретимся на приеме в Академии, я уже буду знать ответ.
Ник чуть было не спросил, сообщил ли Гончаров руководителям Академии, как он истолковал его телефонный звонок в посольство, но вовремя удержался. Если да, то он, несомненно, сообщит и о сегодняшнем разговоре, а если нет, то тем дело и кончится. И в том и в другом случае задавать этот вопрос не имело никакого смысла.
— Будем надеяться на лучшее, — сказал он вместо этого. — Мне очень хотелось бы остаться.
— Я сделаю все, что в моих силах, — просто ответил Гончаров. — Если не поздно, я еще раз поговорю в Академии.
— Это то самое «если», которое вы имели в виду тогда? — спросил Ник.
— Нет, совсем другое. Этих «если» существует немало.
Ник едва поспел в английское посольство, устраивавшее прием в честь своих ученых. Не успел он войти в зал, как увидел Анни Робинсон. Она стояла у окна, из которого видны были за рекой красные стены и светло-желтые дворцы Кремля. На ней был тот же костюм, что и накануне, но если на фоне безупречных туалетов американских дам она выглядела уважаемой, но бедной родственницей, то здесь казалась гораздо более элегантной. С ней разговаривал молодой англичанин в военной форме, смотревший на нее с победоносным видом, и только хорошие манеры мешали его улыбке превратиться в наглую усмешку. И все же, несмотря на очевидную пошлость этого человека, Анни смеялась, слушая его.
Некоторое время Ник сознательно ее избегал. Он даже обрадовался, увидев Адамса — корреспондента, первым сообщившего ему о статье в «Правде», который шел к нему с одним из своих коллег.
— И вы ему поверили? — скептически спросил второй корреспондент, когда Ник рассказал им о том, что произошло.
— Конечно, поверил. И могу только надеяться, что он поверил мне. Я хочу, чтобы мне продлили визу.
— Продлят, — сказал Адамс, — об этом можете не беспокоиться.
— А по-моему, не продлят, — возразил его коллега. Лицо у него было надутое и недовольное. — Он верит в то, о чем сказал вам вначале. А ваши объяснения на него никак не подействовали. Я-то знаю здешнюю публику. Они говорят вам одно, а сами бегут к телефону и сообщают совсем другое. А вам и невдомек, кто вас подвел.
— Нет, продлят, — настаивал Адамс. — Он же ученый, а не журналист. Почему бы и не разрешить ему провести здесь еще месяц? Чем он им помешает? Или, по-вашему, их возмутила первая версия, сообщенная Гончаровым, — что иностранный ученый приехал сюда со специальным заданием от своего правительства? Да ведь они ничего другого и не ждут. Вам разрешат остаться, — обратился он к Нику. — Но увидите вы только то, что они захотят, и встречаться будете только с теми, кого они выберут. Об этом позаботится ваш переводчик, а вы даже ничего не заметите.
— Но я обхожусь без переводчика, — возразил Ник.
— Так вы говорите по-русски? — осведомился Адамс совсем другим тоном.
— Немножко. Достаточно, чтобы объясниться.
— И это им известно?
— Вероятно.
— Тогда другое дело, — сказал Адамс. — Скорее всего, с продлением визы выйдет задержка, и все будут выражать искреннейшие сожаления по этому поводу, а месяца через два-три вы получите письмо — ах, как обидно, что вы тогда уехали, ведь виза пришла ровно через двадцать минут после отлета самолета.
— Я ставлю на Гончарова, — упорствовал Ник. — Он меня не обманывает. Я это знаю.
— Только не ставьте долларов, — вмешался второй корреспондент, — тогда это обойдется вам недорого!
Они отошли, а у него сразу испортилось настроение. Он был так уверен, что опять нашел общий язык с Гончаровым, — но ведь эти люди считались специалистами по Москве! Анни все еще болтала с офицером. Однако, когда несколько минут спустя кто-то из сотрудников посольства любезно предложил Нику коктейль, он не удержался и ловко навел разговор на нее, осведомившись, кто ее собеседник.
— Его фамилия как будто Энрайт. Он здесь проездом, завтра или послезавтра уезжает в Пекин. О нет, он не из наших, не то что Анни. Вы ведь с ней знакомы?
— Из ваших? — удивленно переспросил Ник. — Как же так? Ведь она американка.
— По рождению, может быть, — ответил молодой человек с тем великолепным пренебрежением к американскому гражданству, на какое способен только англичанин. — Но она была замужем за англичанином и столько лет прожила в Лондоне, что об этом как-то забываешь. А когда ее муж был еще жив, они очень часто бывали здесь.
— Ах, вот как! — сказал Ник. Ему хотелось прекратить этот разговор, но он все-таки не удержался и спросил: — Вы его знали?
— Робинсона? Ну, конечно. Прекрасный был человек. Удивительно честный и прямой. И очень смелый — был готов поехать куда угодно — немножко сумасшедший, конечно, но в лучшем смысле слова. И если так можно выразиться о подобном человеке — очень добрый. Необыкновенно добрый! Да, никому не пришло бы в голову спросить: и что она в нем нашла?
— А она? — спросил Ник.
— Анни? — удивился его собеседник. — Для нее существует только одно определение — чудесная. Правда, она американка, но все равно она чудесный человек. А вот с кем она заговорила сейчас, я не знаю. Судя по виду, кто-то из ваших соотечественников.
Ник обернулся. Анни была на прежнем месте, но разговаривала теперь с каким-то штатским, который стоял спиной к нему. Это был худощавый, безупречно одетый человек с седыми, гладко прилизанными волосами вокруг лысины, придававшей ему еще более лощенный вид. Даже до того как он оглянулся и Ник увидел худое лицо и сложенные в иронически любезную улыбку губы, сердце его упало — он узнал Хэншела.
Его первым желанием было повернуться и уйти, чтобы избежать этой гнетущей встречи. До тех пор пока их отношения с Гончаровым не выяснятся окончательно, говорить о них с Хэншелом ему не хотелось. Он ведь так настойчиво утверждал, что его заветные желания непременно сбудутся в Москве! Признаться теперь, что он ошибался, значило бы поставить себя в глупое положение.
Ник продолжал наблюдать за Хэншелом и Анни, но смотрел больше на нее, любуясь грациозным движением ее рук, изящными поворотами головы, внезапной улыбкой и неожиданно пробегавшим по лицу облачком сочувствия. Она, казалось, знала здесь всех, и все, казалось, были рады ее видеть. Жизнь ее, очевидно, была так полна, что он был бы в ней лишним, для него не нашлось бы даже крохотного местечка. Вчера она ушла, не попрощавшись с ним только потому, что тут же забыла о его существовании. Вот оно, самое простое объяснение. А Хэншела она, конечно, не забудет: Ник следил за его жестами, за быстро меняющимся выражением оживленного лица, и ему становилось ясно, что Хэншел полностью овладел вниманием своей собеседницы — если он и не завоевал ее симпатии, то, во всяком случае, ей было с ним интересно.
Внезапно его захлестнула черная волна одиночества. Гончаров, наверное, предаст его. У Руфи будет ее долгожданный ребенок, а потом еще дети, и в конце концов она забудет о том времени, когда они жили вместе. Мэрион тоже — и даже с большей легкостью — выбросит из головы воспоминания о кратких мгновениях, которые делила с ним. Его леденило отчаяние: он брел невидимкой в густом черном безмолвии, помощи ждать было неоткуда, и лишь апокалипсическое видение добела раскаленной гибели разрывало мглу, словно вспышка молнии. Но он не хотел поддаваться этому чувству, как не хотел поддаться соблазну и принять проповедуемое Хэншелом спасительное отвращение к жизни, пусть даже и отравленной людской подлостью и лицемерием.