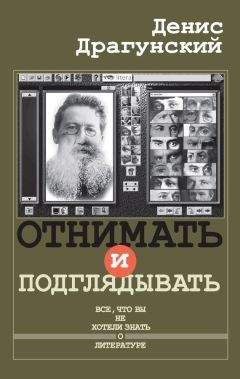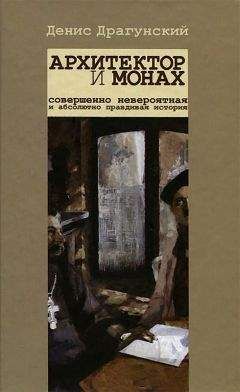Денис Драгунский - Третий роман писателя Абрикосова
А может быть, этого парня звали вовсе не Паша Верещагин. Был еще один – Саша Васнецов, но он, кажется, был как раз из принцев. Жил на втором этаже, я один раз у него в гостях был, сподобился. Ничего не помню – ковер, помню, и белый камин. На ковре железная дорога заводная. И часы в углу – маятник качается и гири блестят. Я спросил: а гири золотые? А он сказал: а ты как думал!
Не помню, убей бог, кто из них кто – потому что фамилии так смешно соединились, Васнецов и Верещагин, известные русские художники, они и в Третьяковке, кажется, в соседних залах висят. Может быть, как раз наш сосед и был Васнецов, а принц, наоборот, Верещагин. Нет, все равно не вспомню. Ну, можно, конечно, попробовать узнать, поглядеть в энциклопедии, был ли тогда такой деятель, Верещагин или Васнецов – но все равно можно напутать. Васнецовых, например, было два художника прошлого века и один современный, а Верещагиных – художник, военачальник и еще физик твердого тела, построил какой-то сверхмощный пресс, но не успел пустить его в работу, умер, и высоченная желто-белая коробка, хоронящая этот пресс, торчит на сорок первом километре Калужского шоссе, справа, если ехать из Москвы, цветом похожая на гору черепов со знаменитой картины однофамильца-художника. Я, когда маленький был, побаивался эту картинку, очень боялся и очень тянуло, она висела на торцевой стене у дальней двери, если идти от Васнецова к Сурикову.
Меж тем писатель, снова приобретя строчную литеру, в тоске и беспокойстве вышел пройтись. Где гулять на Беговой? Ноги сами привели его на Ваганьково. Вдоль кладбищенской ограды стояли красные автобусы. Туристы вбегали в ворота, пробегали по аллеям. Экскурсовод быстро объяснял в мегафон: могила того, могила другого. Жена была против, родители настояли. Хоронила одна любовница, памятник ставила другая. Первая уже умерла. Вот, могила рядом. Теперь сюда – выдающийся русский художник-передвижник. Экскурсий было много, мегафоны перекликались. Кладбище было хорошее, уютное, только народу многовато. Он огляделся – рядом была могила рано умершей девушки: большая, совершенно не надгробная фотография – легкий взгляд и улыбка. Молодой милиционер смотрел на ее светлое личико, опершись локтями на крашеную железную ограду.
– Литературно… – подумал писатель. – Господи, как это все литературно…
В ворота въехал катафальный автобус. Сразу вокруг появилось много людей – очевидно, они уже давно здесь стояли, ждали, и вот теперь собрались вместе. Были старушки, ведомые под ручку очкастыми молодыми людьми, были профессорского вида мужчины с бородами и узловатыми тростями, были умные некрасивые девицы, были полные дамы в шуршащих, специально к такому случаю сберегаемых платьях, мамы что-то шептали детям на ушко, и один такой ребятенок подошел к бородатому парню в соломенной шляпе, поклонился и поцеловал ему руку, а парень перекрестил его и погладил по затылку, а потом достал из саквояжа священническое облачение и на виду у всех облек, так сказать, себя, – и тут вся толпа двинулась вперед и вглубь аллей, тем более что гроб уже извлекли из автобуса и поставили на каталку.
Почти у всех были одинаковые цветы – толстые фиолетовые гиацинты. Сзади шел азиат громадного роста, в белой рубахе непонятного покроя и круглой барашковой шапочке, – тоже, надо полагать, духовное лицо. Он шел медленно – ему неловко было шагать во главе процессии рядом с православным попом, он как будто нарочно замедлял шаг и озирался.
Писатель подошел к нему, извинился и спросил, кого хоронят – не Верещагина ли. Тот покачал головой и назвал незнакомую короткую фамилию.
– Понятно, – покивал писатель. – Царствие небесное.
– А Верещагина завтра хоронят! – сообщил подвернувшийся рядом кладбищенский мужичок, в ватнике и с лопатой. – Уже могилку отрыли по первому классу. Похоронá будут – ты что! Два оркестра, сто венков! Пал Львовича все уважали! Завтра, в полвторого.
– Я приду, – сказал писатель. – Мы с ним старые друзья, но давно не виделись… А!.. – Он махнул рукой и заспешил к выходу.
Все, все, все.
Нет, еще не совсем. Там в начале был эпиграф – наверное, надо поставить что-то в конце. Пусть это называется «метаграф». Эпиграф был вверху справа – пусть метаграф будет слева внизу:
– Вы отлично держитесь в седле, ваша светлость!
– Рад слышать эту похвалу из ваших уст, лейтенант. Но погодите! Что это за облачко там, у горизонта?
– Дайте бинокль.
РАССКАЗ
Вот тут я зашел к своему приятелю, по делу, совсем ненадолго, а в комнату, где мы сидели, вошел его отец. Поздоровались, и он так, слово за слово, начал рассказывать о своем отце. Не помню, с чего начался разговор – кажется, с похорон. Да, конечно, я только что был на похоронах одного нашего институтского профессора, и мне было очень жалко, что он внезапно умер. Я любил его семинары. Разговор о похоронах, и он – отец приятеля – рассказал, как хоронил своего отца.
Дело в том, что они почти не были знакомы – отец от них ушел давным-давно, а мать вышла замуж во второй раз, причем вполне удачно, и у него – то есть у отца моего приятеля – никаких обид не было. Вот. А отец его, надо сказать, был человек не то чтобы очень высокопоставленный, но тоже не просто так, занимал чины, сначала в армии, потом во внутренних делах, потом, кажется, в дипломатической службе, но как-то уже годов этак с конца сороковых стал потихоньку стушевываться, отходить на обочину, и кончил, как и положено, кадровиком. Начальником отдела кадров какого-то завода. Хотя я уже точно не помню. Хотя неважно. Так вот, ему – то есть отцу моего приятеля – звонят и сообщают, что умер ваш отец, похороны тогда-то. Ну, приехал, разумеется. Больница, целый больничный городок. Разыскал, где морг. Вынос тела, родных никого. Только он и еще три человека с последней службы покойного, и еще одна женщина из домоуправления, где он стоял на партийном учете. Так что все они как раз поместились в большой служебной машине отца моего приятеля, ехать в крематорий, а автобус с телом покойного поехал вперед. Хотя, наверное, кто-то там при гробе все-таки ехал в автобусе. Ехали, и эти люди с работы и женщина из домоуправления говорили, как это хорошо, что сын покойного на большой служебной машине, на черном «ЗИМе» – вышел, значит, в большие люди. Ведь тогда – дело-то было не сейчас, а лет двадцать тому назад – тогда служебный «ЗИМ» был ой-ой-ой что такое. Потому что сын покойного – то есть отец моего приятеля – и в самом деле вышел в большие люди. Я, во всяком случае, это очень хорошо понимал, и когда затеялся этот разговор и рассказ про похороны отца, я даже не рассказ слушал, а всю ситуацию наблюдал и старался запомнить: что я, значит, пришел к приятелю, и тут входит его отец, садится, и вполне запросто и задушевно с нами, и со мной, значит, тоже, – запросто и задушевно разговаривает, хотя сам он – ой-ой-ой кто. Да, так вот. Едут они в машине и разговаривают, и эти люди, значит, говорят: как это хорошо, что единственный сын покойного в такие люди вышел, и как бы покойный этому обрадовался. Или, может быть, они говорили об этом в утвердительном смысле, как покойный был этому рад, без сослагательной частицы «бы», поскольку не хотели подчеркивать тот невеселый факт, что покойный с сыном своим не видался лет этак, может, тридцать, и перед смертью не повидался тоже. Но не в том дело. А дело, рассказывал дальше отец моего приятеля, а дело в том, что женщина из домоуправления, где покойный стоял на партучете, организовала что-то вроде скромных поминок в комнате покойного, поскольку жила с ним в одной коммунальной квартире. Да! В автобусе при гробе ехали соседи покойного по квартире. Конечно, это они в автобусе ехали, а люди рангом, так сказать, повыше – то есть прежние сослуживцы из отдела кадров и эта самая домоуправша – в машине. Пришлось, куда деваться, ехать на эти самые поминки и даже на обратном пути из крематория заезжать в магазин покупать водку. Сами поминки были довольно быстрые, но зато эта женщина-соседка, она же партсекретарь домоуправления, отдала сыну покойного толстую общую тетрадку, в которой покойный вел какие-то записи. Разумеется, она предложила сыну покойного взять еще что он захочет из отцовских вещей, но он, разумеется, взял только коробочку с двумя орденами и еще фотографию, на которой отец был в костюме с довольно странными погонами и шевронами – оказалось, что это дипломатический мундир.
А в этой самой тетрадке, рассказывал отец моего приятеля, было записано несколько случаев из жизни покойного, и среди них один особенно замечательный рассказ. Рассказ сам по себе довольно страшноватый – про то, как он – то есть покойный отец отца моего приятеля – пробирался во вражеский – кажется, в колчаковский – тыл. Дело было в Сибири, в какой-то год гражданской войны. И во вражеский тыл его вез на телеге старый крестьянский дед, вез по одному этому деду известной дороге, заброшенной и заросшей, а потом и вовсе без дороги, какими-то распадками и пересохшими речками, и поэтому пришлось бросить телегу и ехать верхом на лошадях, а под конец, когда они уже пробрались, обойдя все посты и авангарды, в самый глухой и безопасный вражеский тыл, вот тогда-то он – то есть покойный рассказчик – на прощанье застрелил деда-проводника, из соображений конспирации, поскольку во вражеский тыл он пробирался не самогонкой торговать, а выполнять особо важное задание, и очень может быть, что в победе над Колчаком есть и его ощутимая скромная лепта. Даже скорее всего так.