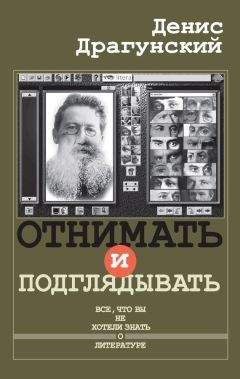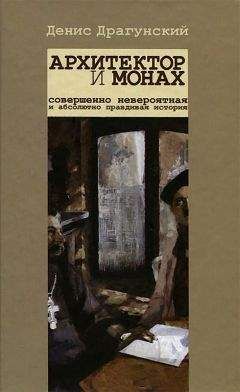Денис Драгунский - Третий роман писателя Абрикосова
Время сеять, время жать, время собирать в житницу, а потом наступает время молоть зерно и выпекать хлебы, – и пахнущая бензином юница исчезла, ибо пришло ее время преломлять горячую лепешку у семейного очага, развязывать ремешки сандалий на запыленных ногах мужа и кормить ребенка маленькой смуглой грудью. Исчезла, ибо писатель для таких дел не годился – он остался во времени первой жатвы, первых взмахов еще неприрученного серпа, когда нужен был немолодой любовник с семьей и творческими кризисами.
Она исчезла, а Паша Верещагин остался. Правда, видеться они стали все реже и реже: оказалось, кстати, что Паша продал машину. Хорошо было бы, конечно, постепенно свести все на нет, спустить отношения на тормозах, как это делается с внезапно возникшими друзьями детства, – но здесь просвечивало хамство, жлобство, просто от жены и сына совестно: значит, пока у человека была машина и он возил тебя как бесплатный, извините, шофер, – в общем, все понятно. Но что же делать? Уехал? Куда? И почему не пишет? Просто так – взял и пропал, запропал совсем? Бред. Как последний вариант было – Паша защитил докторскую, стал главным конструктором, и вообще забурел, нос задрал, и пошел он к черту. Но сын как раз заканчивал институт, и такой человек, как Паша Верещагин, если он доктор наук и главный конструктор, становился необходим в плане хорошего места работы для сына, а если он и впрямь так уж занесся и забурел – ничего, ради такого дела не грех и поклониться, попросить по-настоящему, тем более все-таки друзья детства… Нет, не годится. Поэтому Паша Верещагин позванивал время от времени, причем звонил он непременно с работы, то есть днем, когда жена на службе, а сын в институте. Конечно, писатель понимал, что эти отношения надо как-то разнообразить, и однажды решил: а пусть-ка Паша приобретет новую машину, поездить с ним куда-ни-то… но нет! Не надо. Ничего в жизни не повторяется дважды, и поэтому Паша Верещагин должен был исчезнуть наверняка и бесповоротно. Исчезла та, которую он охранял, теперь его очередь. Наверное, оттого-то и было писателю с утра так тоскливо и тяжко, и к работе не лежала душа – наверное, именно сегодня был срок Паше Верещагину исчезнуть совсем. И писатель подумал, что в оправдание своей мрачности он сообщит домашним: ребята сказали, что умер Паша Верещагин.
Ребята сказали, что умер Паша Верещагин, задумчиво повторил писатель, повторил еще и еще раз, то громче, то тише, любуясь траурным ритмом имени и фамилии своего изобретенного друга – Паша Верещагин – тá-та та-та-тáм-пам – хорей и пеон…
Итак. Ребята сказали, что умер Паша Верещагин. Хорошее начало для рассказа. Плохое. Слишком словесное. Как это – ребята сказали? Хором пришли и сказали? Или по одному подходили? Да и что это за ребята? Никаких таких особенных ребят у него не было, кроме тех, которые были друзьями семьи – и кроме покойного Паши Верещагина, да не покажется это любезному читателю смешно. Но дело не в этом. Дело в том, что писатель все время преодолевал словесность, самодостаточность языка, пытался вылепить физическую реальность, пластику действия, но словесность все время вылезала вперед, рисовала безвкусные разноцветные финтифлюшки поверх тесаного камня жизненной плоти. Преодолевал старательно и с малым успехом, отчего и происходили бесконечные паузы и кризисы, которые так сильно понравились и так быстро надоели его автогоночной возлюбленной. Ах, по газам! – он зажал себе уши и нос, как пожилой купальщик перед тем, как обмакнуться с головой.
Да где теперь, на каком заповедном травяном бережке с кривыми мостками найдешь такого купальщика? Седого, пузатого, в длинных смятых гармошкой сатиновых трусах – эх, купнемся! – а на траве, на одеялке, – бутерброды, помидоры и термос. И транзистор поет: песня остается с человеком, песня не расстанется с тобой никогда. Пропал купальщик, остался жест – большими пальцами зажать нос, указательными – уши, и зажмурить глаза, не слышать низкий треск прогоревшего глушителя, не видеть медную пряжку офицерского пояса, вмятую в ее абрикосово-пушистый живот, не чувствовать запах сырого матраса, бензина, загорелой обветренной кожи. Бедный добрый святой Паша Верещагин, ангел-хранитель, спасибо тебе.
Спасибо тебе… Но почему именно Паша Верещагин? А не Володя, к примеру, Большаков, Саня Иванченко и так далее вплоть до Марата Ахмадуллаева? И писатель, выйдя из-за стола и зашагав по комнате, стал вспоминать, откуда Паша Верещагин взялся – не с потолка же.
Да уж, конечно, не с низенького потолка крохотной квартирки в блочном доме – одна радость, что на Беговой, почти что в центре… Конечно, не с потолка. Я его прекрасно помню, Пашу Верещагина. Мы жили в одном доме – он, я и Писатель – теперь уж лучше называть его с большой буквы, тем более что уже тогда он был Писателем. Мы его так обзывали. У них был шикарный письменный стол. Старинный. Архиерейский. Или это напольные часы бывают архиерейские? Неважно, главное – он говорил, что с таким столом грех не стать писателем. Мы ржали. Он говорил – буду писателем, вот увидите. Мы ржали. Как Лев Толстой? Как Фэ Мэ Достоевский? Он чуть не плакал. Буду! Мы проходили мимо его окна – он сидел за столом в писательской позе – левой рукой голову подпер, а в правой держал карандаш. Что-то даже было написано на бумаге: он сочинял, писатель, обалдеть! Мы тарабанили в стекло – он не обращал внимания. Мы кричали в форточку: писатель, писатель! Или: расскажите про ваши творческие планы! Он не поднимал головы… Именно не поднимал, поскольку жил в полуподвале, и мы, заглядывая в окно, были сверху. Мы сами тоже жили в этих полуподвальных квартирах – вся наша компания, включая Пашу Верещагина. Дом был такой, замечательный четырехэтажный дом, ростом с нынешний восьмиэтажный – с квартирами по десять комнат, с ковром на мраморных лестницах и со специальными дяденьками, которые читали себе газетку возле каждого подъезда. Это кроме лифтеров и постового милиционера: серьезный дом. Сейчас он весь в мемориальных досках. В наше время тоже доски были, но числом поменьше. Сами знаете, кто жил наверху, а челядь – да не убоимся сего слова, именно челядь, обслуга вышеобитающих – в полуподвалах. Отец Писателя, кажется, заведовал гаражом или был диспетчером, что-то в этом роде. Мама Паши Верещагина мыла лестницы и чистила ковры, а чем мои занимались – неважно, не обязан рассказывать. Но ничего этакого, даю слово. Кстати, мама Паши Верещагина мыла полы в верхних квартирах тоже – мы эти квартиры прямо называли барскими, – рассказывала, что наша полуподвально-коммунальная квартира, оказывается, в точности повторяет барскую. А как же иначе, если она под нею. Одно исключение – в барской квартире были два входа – парадный и черный, а у нас только черный, через кухню. Парадный был как-то заделан – и то, не пускать же нас через барскую лестницу, с малиновым ковром и лакированными перилами. А кроме того, там, где в барской квартире была прихожая с окном, у нас образовалась лишняя комната. У нас – в смысле в нашей коммунальной квартире. Вроде Паша Верещагин как раз в такой комнате и жил.
Писатель первый от нас уехал. Стол, целая история, не проходил в дверь, пришлось на веревках вытягивать в окно – окна, слава богу, были хоть подвальные, а широченные. Мы стояли вокруг и ржали: как же так? Что, сначала поставили стол, а потом вокруг построили дом? Или его прямо в комнате состолярили? Мы соревновались, кто смешней придумает, а Писатель помогал тащить, чуть не плакал, что могут шарахнуть о кирпичные боковины окна, и прикрывал резные уголки ладошкой. Мы ржали: Писатель бережет орудие труда! Все ржали, весь двор, и принцы, и дворники. Надо сказать, что принцы, то есть жители верхних квартир, никогда не называли нас, детей обслуги, дворниками. Мы – да, случалось, когда, например, наглаженный-наряженный-надушенный, с бантиком на кружевной рубашечке и в круглоносых лаковых ботиночках, восьмилетний внучек усаживался в дедушкин «ЗИС», поддерживаемый за локоток ординарцем в чине майора, – ехать в Детский театр, хотя туда пешего ходу было десять минут, – вот тогда вслед могли присвистнуть: при-иинц! Ну, или иногда в споре: а ты откуда знаешь, принц? Не более того. Но они нас, повторяю, дворниками не обзывали. Мы сами знали, что мы дворники. А принцы знали, что мы это про себя знаем, и этого было довольно.
А может быть, этого парня звали вовсе не Паша Верещагин. Был еще один – Саша Васнецов, но он, кажется, был как раз из принцев. Жил на втором этаже, я один раз у него в гостях был, сподобился. Ничего не помню – ковер, помню, и белый камин. На ковре железная дорога заводная. И часы в углу – маятник качается и гири блестят. Я спросил: а гири золотые? А он сказал: а ты как думал!
Не помню, убей бог, кто из них кто – потому что фамилии так смешно соединились, Васнецов и Верещагин, известные русские художники, они и в Третьяковке, кажется, в соседних залах висят. Может быть, как раз наш сосед и был Васнецов, а принц, наоборот, Верещагин. Нет, все равно не вспомню. Ну, можно, конечно, попробовать узнать, поглядеть в энциклопедии, был ли тогда такой деятель, Верещагин или Васнецов – но все равно можно напутать. Васнецовых, например, было два художника прошлого века и один современный, а Верещагиных – художник, военачальник и еще физик твердого тела, построил какой-то сверхмощный пресс, но не успел пустить его в работу, умер, и высоченная желто-белая коробка, хоронящая этот пресс, торчит на сорок первом километре Калужского шоссе, справа, если ехать из Москвы, цветом похожая на гору черепов со знаменитой картины однофамильца-художника. Я, когда маленький был, побаивался эту картинку, очень боялся и очень тянуло, она висела на торцевой стене у дальней двери, если идти от Васнецова к Сурикову.