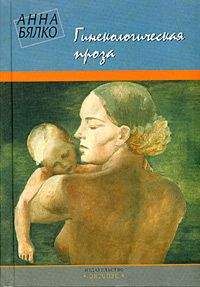Грэм Свифт - Свет дня
Думаю про стол, накрытый на двоих.
— И что по этому поводу чувствовать? Что это неправда? Что такого не бывает? Это без меня тебе жизнь должна быть не в жизнь. Но разве это правильно, разве так надо — требовать, чтобы кто-то не мог без тебя жить?
Смотрю на нее и стараюсь не думать так напряженно.
— И раньше он ведь жил без нее, правда? Жил, пока ее черт не принес. Жил со мной. Так всерьез он это сказал или нет?
Можно подумать, Боб здесь и она его допрашивает. Во всем он виноват, черт бы его драл.
Или меня за неимением Боба.
Мне, может, стоило бы пожать плечами и сказать, что это просто такое выражение, просто слова. Но я сейчас отношусь к словам серьезно.
Лицо стало угрюмым и холодным. Каким было в первые наши свидания.
— Конечно, мы можем жить без, — говорит она. — Мы можем жить без кого угодно. Приходится жить, и живем.
Смотрю на нее не мигая. Это как испытание.
— Взять хотя бы Кристину. Разве она не жила без? Считай, без всего. А это заведение — о господи! — разве оно не учит жить без? Разве оно этому не учит?
Пытаюсь улыбнуться.
— Не знаю, сердце мое.
Опять эта еле заметная улыбка.
— Это ведь роскошь, разве нет? Чтобы у тебя был кто-то, без кого ты не можешь жить.
— Нет, сердце мое, это не роскошь.
Надзорки стоят вокруг, смотрят. Это не детская площадка, хотя тут есть дети, — но это вроде школы. Тут учатся. И тут — она говорила мне это не раз, хотя и так любому дураку ясно, — дело не столько в том, без чего ты живешь, сколько в том, с чем. Например, со словами, которые приходится теперь принимать всерьез, с большими словарными словами — они существовали и раньше, но как будто в чужом языке. А теперь (я тоже чувствую их вес) они реальны, как камни.
Например, «раскаяние».
В этот день, в особый, они уж точно реальны.
— И для него это не была роскошь. Жаль, что не была. Лучше уж — ну, ты понимаешь — мужчина заводит себе любовницу как предмет роскоши. Она — его предмет роскоши. Значит, когда-нибудь надоест.
Улыбка погасла.
— Знаешь, что я тогда подумала? Ха! Что это он теперь беженец. Беженец, черт бы его драл. Человек, который не знает, где теперь его дом. А я даю ему убежище. Убежище собственному мужу.
Как будто это происходит сейчас. День такой. Все пережить заново.
Иногда мне хочется сказать — но потом кажется нелепостью: перестань себя казнить. В этот день, в особый, уж точно кажется нелепостью.
На стене комнаты для свиданий висят часы с красной секундной стрелкой. Она перемещается короткими рывками, по крошке отщипывая от времени, которое нам осталось. Это всегда отдает глупой шуткой. Тридцать минут… Восемь лет…
Если бы только они могли ее выпустить — на один этот день. Чтобы поехала к могиле, постояла и посмотрела. Если бы только ей предоставили эту… роскошь. Я был бы с ней, взял бы ее на поруки, вернул бы потом. Не удрал бы с ней, можете быть спокойны. Дежурил бы в сторонке, как охранник (ведь это, в конце концов, моя работа — сопровождать людей), пока она стояла бы там.
Пытка для нее была бы смотреть на это. И пытка не иметь такой возможности.
Просто увидеть могилу.
— Знаешь, что я еще тогда подумала? Что мне нельзя больше быть жадной. Не жадничай, не можешь без него — будь пайщицей. Но только не переставай любить, только не переставай — без любви надежды вообще никакой.
Думаю про себя: хочется мне такое слышать? Хочется или нет?
А что мне хочется слышать? Что Боб был ошибкой, одной долгой ошибкой? Разбитое ветровое стекло, coq au vin. Как я стал ошибкой для Рейчел. «Всего хорошего, Джордж».
Не знаю, что Сара сказала бы сейчас — через два года, — если бы ее выпустили, если бы она могла постоять у могилы. Не знаю, как это бывает.
А я дежурил бы в сторонке и прислушивался.
Всего хорошего, Боб.
Секундная стрелка знай себе дергается. Почти без четверти четыре. Два года назад они в последний раз были вместе в Фулеме.
Послушай меня, Боб, — я тебя убила, послушай меня теперь — я не люблю тебя больше.
Глаза усталые, как будто не спала ночь. На лбу желвачок. Косметики никакой.
Не казни себя.
— Она не была для него предметом роскоши — ведь не была? Иначе он бы ни за что этого не сказал, не посмел бы мне сказать, что не может без нее жить.
Опускает взгляд на свои руки.
— И, что ни говори, так и вышло. Вышло по его словам.
46
«Он едет домой».
Я сказал это — и моя работа была кончена.
Мог и сам ехать домой, а дома готовить себе ужин на одного. Трубочки из теста со шпинатом и овечьим сыром. Почти все уже было сделано (я всегда думаю загодя), только на двадцать минут поставить в духовку. Салат из помидоров с базиликом. Стаканчик кьянти. Если ты один, это не значит, что можно питаться абы как. Позволь себе маленькую роскошь.
Но я увидел его лицо — эту пустоту вместо лица, — когда он повернулся и слепо, нетвердым шагом двинулся в мою сторону. На секунду показалось, что он сейчас на меня натолкнется, и если бы он смотрел, если бы лицо было не пустотой, а нормальным лицом с глазами, он увидел бы меня в каких-нибудь трех шагах. Я прижимал к уху телефон. Он увидел бы совершенно незнакомого человека, который, однако, разговаривал в этот момент с его женой. Я же, наоборот, видел человека, которого знал по фотографии (рубашка с закатанными рукавами) и который вдруг превратился в незнакомца. Так что ощущение в ту секунду было такое, словно смотришься в зеркало. Это — я? Эта потерянная душа?
Потом он свернул, шатнулся в сторону. Я положил телефон в карман. Нет, работа не кончена. Какое там.
Вот откуда начались вопросы Марша. Вы не обязаны были это делать, не обязаны были следовать за ним дальше.
Да, я мог сидеть дома и есть трубочки из теста.
Но кто, как не я, должен был все обеспечить? Вернуть его домой, точно взятого на поруки. Голос у нее прыгнул — «ой, спасибо огромное» — и сердце у меня прыгнуло, хотя, по идее, должно было упасть. Почему я не стал как Боб?
Счастье другого человека, не твое.
Он побрел к автостоянке. Что я бы сделал в его положении? Нашел бы место, откуда видны взлетно-посадочные полосы? Прижался бы носом к холодному стеклу? Огни выруливающих самолетов. Тяжелые лайнеры, люди в иллюминаторах как теоретические возможности. В темноте попробуй разгляди…
Я следовал за ним по переходу. Правда, «следовал» — не то слово. Я не мог объяснить этого Маршу. Лучше сказать — пихал его взглядом. Понукал. Напрочь отбросил обычную осторожность: видеть, но быть невидимым. Хотелось поравняться с ним — он шел тяжело, медленно, ноги как из свинца, — схватить его за локоть, дернуть вперед. А ну пошел!
Как он отыскал этаж, машину — не понимаю. И в нормальном-то состоянии тут можно заблудиться, забыть, где ее оставил. Но тогда, меньше часа назад, он ведь знал, пусть и не хотел думать, каково ему будет, — знал, что придется возвращаться сюда, возвращаться одному.
Безжалостность многоэтажной автостоянки. Холодный бетон, пятна бензина. Рев лайнеров. Она сейчас улетит. Он нашел «сааб», сел в него. Машина может быть бункером, ямой, гробницей. Через несколько секунд свет в салоне погас, а он все еще ничего не включил. Мне не видно было, опустил ли он голову на руки.
Прошло минут пять. Машина вновь стала похожа на черную твердую раковину. Есть кто внутри или нет?
Слушай, бога ради, запускай свой долбаный мотор!
47
Я думаю: он прожил без нее всего пару часов.
Ничего ей не говорю.
А тут — уже два года.
Иногда она ближе дыхания, хоть нас и разделяет стол. Иногда стол растягивается на милю.
Не первый раз думаю: если я хороший посетитель, аккуратный, надежный, если я отбываю свой срок (уже два года!) без нареканий, может быть, мне позволят взять ее домой?
В порядке исключения. А? Я буду за ней смотреть, обещаю. Никаких больше убийств. Можете не опасаться. Беру на поруки. Бессрочно.
Я вежлив с надзорками, я всегда с ними вежлив.
Одной проблемой, одной заботой им будет меньше. Одним ртом меньше, одна койка освободится. Хоть маленькое, но облегчение для бюджета. Частная благотворительная инициатива. Я сам буду держать ее под замком.
В сущности, то же самое, что она сделала три года назад, взяв Кристину. Какие правила она нарушила? Ну какие?
Надзорки стоят с таким видом, точно в любой момент могут сделать выбор. Так, вы двое — да-да, вы и вы, — мы за вами наблюдали. Считайте, что вытянули счастливый билет. Нет, не надо нас благодарить.
Но они просто смотрят. Такая у них работа. Ни во что не ввязываться. У них тоже проведена черта. У каждого она есть.
Почти четыре. Они все еще в фулемской квартире, шторы задернуты. Еще чуть-чуть — и я подъеду к дому, стану ждать, смотреть. Смеркается. Так, вы двое — да-да, вы и вы, — на выход, время истекло.