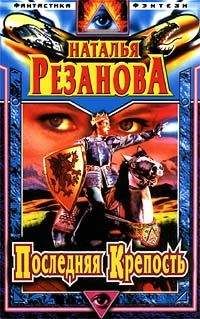Елена Крюкова - Золотая голова
Все было по-настоящему.
— Снимаем! — сладострастно крикнул тот, кто фотографировал.
— А-а, — сказала Золотая голова. — А-а-а!
И быстрее броска змеи скользнула, прыгнула — в платье Джоконды — ногами — на стул.
В этот момент фотограф сделал снимок.
Джоконда стояла на стуле и орала во все горло:
— А-а-а-а-а! Ужа-а-а-а-ас! А-а-а-а-а!
Фотограф воздел руки в отчаянии.
— Боже! Боже мой!
— Бля-а-а-а-адь! — орала Золотая голова. — А-а-а-а! Уберите-е-е-е!
— Что случилось! — отчаянно проорал фотограф.
— Мы-ы-ы-ы-ышь! — вопила Золотая голова.
Фотограф взял себя обеими руками за голову.
— Господи, Гос-с-с-с…
— Убейте-е-е-е-е! — орала Золотая голова.
Фотограф беспомощно оглянулся.
Никакой мыши в помине не было.
Пока они оба орали, мышь благополучно уползла в неведомую дырку.
В норку.
— Она уже уползла в норку, — обреченно сказал фотограф.
Золотая голова подобрала обеими руками старинные юбки.
— Уползла-а-а-а?!
— Да. Уползла!
В глазах у фотографа сверкали слезы.
Он, сквозь слезы, глядел на белые голые щиколотки, на точеные икры Золотой головы.
Он почему-то дико захотел ее.
«И правду говорят, она действительно, зверюга, такая секси…»
— Уже-е-е-е?!
— Вы можете слезть со стула! — крикнул фотограф. — Я вам помогу!
Он протянул Золотой голове руку.
Она протянула ему дрожащие пальцы.
Когда она спрыгивала со стула на пол, фотограф наступил ей ногой на подол старинного платья, будто нечаянно. Шов захрустел, и юбка разорвалась.
— Вы это нарочно! — крикнула Золотая голова.
— Не нарочно, — сказал фотограф, хотя это была неправда. — Извините.
— Блядь! — сказала Золотая голова. — Где мышь?
Фотограф чувствовал, как его живой шедевр рвет ему штаны.
— А вы бы убили ее? — спросил фотограф, держа Золотую голову за белую руку.
— Конечно! — сказала Золотая голова. — Туфлей!
Она посмотрела на него, и фотограф почувствовал себя мышью.
— Хотите анекдот про норку? — внезапно спросил фотограф, не выпуская белую гладкую руку из своей. — Муж купил жене норковую шубу. Она: что ты мне купил, дорогой! Здесь же одни дырки! Муж смеется: что ты, дорогая, это отличная шуба, какие же это дырки! Это — норки!
— Смешно, — сказала Золотая голова. — Ха-ха-ха!
— Я сделал снимок, когда вы прыгнули на стул, — сказал фотограф смущенно. — Это будет шедевр.
Золотая голова легонько пожала его руку, и он с ужасом понял, что сейчас, сейчас, да, вот.
— Ха-ха-ха, — раздельно, будто катая во рту жемчужины, высмеялась.
Улыбнулась.
Мона Лиза.
Джоконда.
Золотая.
ЧУДО СРЕДИ ТЬМЫ: И ЕСТЬ, И БУДЕТ МИРОТОЧИВАЯ…многозубчатая, сверкающая темным, будто на рыбацком костре подкопченным, золотом корона над Ее чистым, крутым лбом.
Крутолобая. Как бычок.
С головокружительно-безумными, священно-бездонными, налитыми растопленным зимним льдом, громадными, как две синих ладьи, глазами. Синие, опаловые белки выпуклы, как очищенные Пасхальные яйца; темно-коричневые радужки внезапно отсвечивают морозно-голубым, наивно-детским аквамарином.
Драгоценное лицо. Переливается, вздрагивает, светится.
Она — драгоценность Земли; и Земля повторяет Ее тысячу, миллион, десятки миллионов раз; вот повторила и теперь.
Щеки округлые, и чуть выпирают, смугло торчат южные скулы. Слегка раскоса, будто Она — татарка. Может, Она — татарка?
Может, Она — абиссинка, ассирийка, армянка, грузинка, таджичка, степнячка, мулатка, креолка, эта смуглая скорбная еврейка с глазами огромными, как два глиняных блюдца, только вынутых, после обжига, из печи?
Рот. Этот скорбный рот. Рот — тоже драгоценность. Персы воспевали рубиновый, гранатовый рот; пели о женских устах, что как лепестки роз. Здесь драгоценность великой скорби, упрятанная в шкатулку вечной, неизбывной радости.
Да! Радости. Ибо Она радуется.
Ибо невозможно никогда и никому победить, измять радость Ее.
«Хайре!» — кричат Ее глаза. Хайре, шепчет ее печальный, нежный рот. Слишком нежный для убивающего мира.
ДЛЯ ЖЕСТОКАГО МIРА, ПОГРЯЗШАГО ВЪ УБИЙСТВАХЪ И УЖАСАХЪ, ВЪ ШОПОТЕ ДIАВОЛА.
Хайре, гелиайне… Кирие элеисон…
Что спускается на Ее чистый, крутой и смуглый лоб с обода короны?
Посреди Ее лба, между бровей, светится прозрачный, висящий на золотой, почти невидимой цепочке, весело-искристый камень. Искусно ограненный самоцвет.
Самоцветы — глаза Земли.
Прозрачный камень на Ее лбу внимательно, спокойно смотрит в мир.
В ШИРОКIЙ И БЕЗУМНЫЙ МIРЪ, ИСПОЛНЕННЫЙ ГРЕХА.
Внимательно, спокойно, ясно, твердо, нежно.
Оба Ее глаза смотрят; и самоцвет сторожко, огненно глядит.
О, да Ее щеки тоже глядят! И рот глядит, дрожит, как алый глаз.
И каждая ноздря, дрожа, глядит. Вдыхает скорбь и ужас. А выдыхает аромат и чистоту.
Углы Ее губ приподнимаются. Это улыбка. Она — улыбается.
Она держит улыбку на лице, как держат в ладонях маленькую птицу.
И вот-вот отпустят.
И уже отпускают: лети!
Но птица не улетает. Не хочет улетать.
Птица знает: Ее нельзя покидать. У Нее будет большое, невыносимое горе.
И потом — такая же великая, необъятная, как небо, невыносимая радость.
Птица хочет навсегда остаться с Ней. Ее утешить.
Прочирикать Ей: я любовь, я с Тобой.
Нет, это Ее глаза как птицы! Они летят впереди Ее лица.
Они летят, плывут, живут и умирают.
И умирая — воскресают.
И воскрешают.
Эти длинные аквамарины, эти темные, звездчатые сапфиры, эти долгие, налитые слезами боли и любви лодки — это они, они поднимают нас из мрака, со смертного ложа, вынимают, тонущих, из тьмы бушующего моря, из ревущего огня великого пожара; пылая впереди, в кромешной тьме, как два огня, два факела могучих, выводят из тюрьмы.
Засовы остаются висеть. Замки тюремные — тяжелеть.
А эта, вот эта рука протягивается — сияет — и пальцы светятся, как свечи, и ты берешь эту руку, как хлеб берут; и, как в хлеб, лицо, губы в нее погружаешь, и запах вдыхаешь.
И — ты сыт; свободен; и крепкая рука руку твою сжимает и тебя ведет.
По черному, узкому слепому коридору.
И вы — вдвоем — выходите на волю, на простор, в метель и ледяной воздух, в чистый ветер, в блеск полыньи, в звон ветвей обледенелых приречных, мертвых ракит.
Лицо Ее горит!
И ты глядишь в Ее лицо. И волосы Ее, густые, пахучие, как зимнее сено, вылетают, летят по ветру из-под горящей тяжелыми, красными и синими, как угли в печи, самоцветами Ее тяжелой золотой короны.
Корона Ее тяжела!
Но Она не снимет ее никогда.
Ради тебя.
Ради свободы и радости твоей.
Она оборачивает лицо Свое к тебе, и ты глядишь в Ее лицо, и слепнешь от золотого, нежного света, брызгающего во все зимние стороны, в ночь зимнюю — маслом от голодной, бедной сковороды — от Ее щек, от Ее скул, от Ее лба, от Ее улыбки, от Ее глаз.
Глаза Ее, две серебряных, сверкающих синей, небесной, звездной чешуей, легко и быстро плывущих рыбы! В океане скорбей. В море горя. В людском бездонном, темном, безумном море.
Солнце — лицо Ее!
Счастье — лицо Ее!
Ты падаешь коленями в жесткий снег, в ледяной наст.
Ты шепчешь: любовь — лицо Твое.
И слышит Она тебя, и улыбается тебе.
И в улыбке блестят сквозь алые, вздрагивающие губы перламутровые зубы Ее; жемчужины их катятся, рвется тонкая нить, и, о чудо, катятся они не вниз, а вверх, и вот уже все небо, мрачно-синее ночное небо — ее звездная, счастливая улыбка.
Всеми звездами мира улыбается Она тебе.
И рыбы звезд играют и прыгают, танцуют вокруг Ее сияющей головы, над ее окутанными горящей, как хвост павлиний, златотканой парчой, круглыми плечами; вокруг тонкой, горделиво-прямой шеи Ее, и бусами небесными серебряные, алмазные рыбы обвивают шею Ее, и ложатся на часто дышащую грудь Ее сверкающим небесным ожерельем.
И метель набрасывает на Нее меховую, драгоценную, белую шубу свою.
Горит, мерцает под Луной, под звездами парча. Горят глаза. Горят святые ладони. Горят ступни, смертный снег прожигая.
А, да Она — босая!
Господи, да босая же Она…
Встать на колени. Поцеловать тот снег, что Она стопами прожгла. Поцеловать ту холодную черную землю, что над бугре — над рекой — под жемчугами неба ночного — под Ее горящими ступнями — оттаяла.
Щекой — к Ее ноге голой — прижаться.
Как Ты, родная? Как же Ты босая, нежными, пылающими ступнями идешь по колючей, соленой земле?
По камням… по крови… по зазубринам льда… по грязи… по пылающим углям… по истлевшим костям… по смиренным кладбищам…
И над родильным ложем склоняешься.
И над одром умирающего в муках.