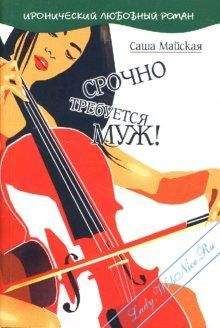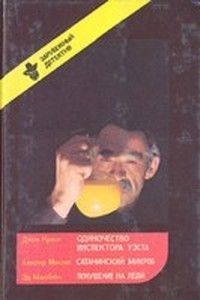Юрий Герман - Жмакин
И, почувствовав жалость к этой, как ему казалось, оскорбленной им девушке, он зарычал и сделал вид, что укусит ее.
Никанор Никитич не спал, когда Жмакин вернулся домой.
— Добрый вечер, — сказал Жмакин.
— Доброе утро, — сказал Никанор Никитич, — чайку не желаете?
Он отложил книгу, снял пенсне, видимо расположенный поговорить, и, улыбнувшись доброй улыбкой, подошел к Жмакину.
— Ну, — спросил он, упираясь пальцем ему в живот, — что?
Сели за стол пить чай.
— Как собака, — сказал Жмакин, — ладаном пахнет. Какая у нас жилплощадь. Верьте слову — все ладаном пропахло, даже чай.
— Я привык, — сказал Никанор Никитич.
— Никанор Никитич, — вдруг сказал Жмакин, — меня жена бросила.
Старик посмотрел круглыми глазами, потом ужаснулся, а Жмакину стало смешно.
— Я пошутил, — сказал он, — будь я проклят, пошутил. Никакой у меня и жены-то нет. Сам один. Сам себе хозяин, сам себе и хозяйка. Да. Надо работать. Выучусь на шофера, начну деньги загонять бешеные, оторву себе костюмчик сиреневый, ботинки с гамашами, а?
— Может быть, может быть, — растерянно сказал Никанор Никитич, — очень может быть.
Уже уходя спать, Жмакин спросил про Стаханова.
— Вы не знаете, кто такой Стаханов? — изумился Никанор Никитич.
— Знаю, но не все, — сухо сказал Жмакин.
— Ну, тогда садитесь, — сказал старик, — я вам попытаюсь изложить. Это не так просто, имейте в виду…
Оттопырив губы, он налил себе стакан крепкого чаю, придал лицу значительность и начал рассказывать.
Он уставал и изматывался еще и потому, что был плохо грамотен, а готовясь к сдаче шоферского экзамена, приходилось много читать и разбираться в кое-каких чертежах. Да и не только в чертежах. Надо было знать мотор, электрооборудование, смазку. Васька его обучал. Но самолюбие Жмакину не позволяло быть у Васьки учеником, он должен был Ваську поражать, удивлять, зная все вперед, да так, чтобы Васька терялся, ахал и разводил руками. И как только Васька понял, чего хочет Жмакин, он с удовольствием начал ахать и разводить руками, — в сущности, это было не так уж трудно, потому что Жмакин действительно его удивлял. Но и хвастался Жмакин тоже на удивление.
— Что, здорово? — спрашивал он у Васьки. — Я, брат, инженер буду, а не шофер. Вы ерунда, узкие специалисты, я дальше хочу пойти и пойду…
— А что ж не пойти, — поддакивал Васька, — у кого какие способности. Есть человек — орел, с ходу берет предмет. А есть — бревно. Долбишь, долбишь — ничего.
— Вроде меня, — хитро подмигивал Жмакин.
— Зачем вроде тебя. О тебе разговора нет, — как бы смущаясь, говорил Васька, — ты парень с головой…
— То-то, — говорил Жмакин, посмеивался и похлопывал смиренного Ваську по широкому плечу.
Целый день он мыл машины — зарабатывал. Денег было очень мало — в получку девяносто рублей, и от невозможности выбросить по старой памяти рубль-другой на ветер он нередко злился.
— Работаешь, работаешь, — кричал он тихому и ни в чем не повинному Никанору Никитичу, — мучаешься, мучаешься, и что в результате? Не желаю!
Однажды, обозлившись после очередной получки, он поехал в кафе «Норд», сел за столик под белым медведем, нарисованным на зеленом стекле, почитал газету и с маху наел на двадцать семь рублей одних сладостей, решив, что теперь по крайней мере месяц не захочется сладкого. Осталось меньше семидесяти рублей. Два рубля он дал на чай, купил пачку папирос за пять и уткнулся в газету, а когда поднял глаза, то увидел, что в кафе входит Клавдя в миленьком синем платье и Федя Гофман — розовый, как поросенок, носатый и довольный. Жуя приторное пирожное с кремом, Жмакин спрятался за газету и взглядом, полным гнева, следил, как носатый и белобрысый Федя по-хозяйски выбирал столик, и как улыбалась знакомой робкой улыбкой Клавдя. На ней были новые туфли с пряжками, и Жмакин сразу же подумал, что эти туфли купил ей Гофман. Жадными и злобными глазами он оглядывал ее фигуру и вдруг заметил уже округляющийся живот, заметил, что бока ее стали шире и походка осторожнее.
«Мой ребенок, — подумал Жмакин, — мой» — и, как бы споткнувшись, застыл на мгновение и усмехнулся, а потом тихим голосом подозвал официанта и заказал себе сто граммов коньяку и лимон.
Клавдя и Гофман сидели неподалеку от него, наискосок, в кабине, и не замечали, что он следит за ними, а он смотрел, и лицо у него было такое, точно он видел нечто чрезвычайно низкое и постыдное.
Гофман сидел вполоборота к нему, и особенное чувство ненависти в Жмакине возбуждала шея Гофмана, розовая, подбритая и жирная. «А ведь не толстый парень, — думал Жмакин, — даже худой, а вот наел себе загривок — не переплюнуть». И он представлял себе, как Гофман обнимает Клавдю и как Клавдя дотрагивается до этой розовой, жирной и подбритой шеи. Мучаясь, облизывая языком сухие губы, он с яростным наслаждением вызывал самые мерзкие образы, какие только могли возникнуть в мозгу, и примеривал эти образы к Клавде, ы тут же грозил ей и ему, и придумывал, как он подойдет сейчас к ним обоим, скажет какое-то главное, решающее слово на все кафе, а потом начнет бить Гофмана по морде до конца, до тех пор, пока тот не свалится и не запросит пощады.
Он выпил коньяк и заказал себе еще.
Гофман подпер лицо руками и говорил что-то Клавке, а она, роясь в сумочке, рассеянно улыбалась. Им принесли кофе и два пирожных.
«Небогато», — со злорадством подумал Жмакин.
Уронив папиросы, он нагнулся, чтобы поднять их, и, когда брал в руки газету, увидел, что Клавдя смотрит на него.
«Поговорим», — холодея и напрягаясь всем телом, как для драки, подумал он, но не встал, а продолжал сидеть в напряженной и даже нелепой позе — в одной руке палка с газетой, в другой — коробка папирос.
Она подошла сама и остановилась перед ним, робкая, счастливая, прелестная. Грудь ее волновалась, на лице вдруг выступил яркий и горячий румянец, и какая-то дрожащая, неверная улыбка появилась на губах.
— Лешенька, — проговорила она покорным и потрясающе милым ему голосом.
Он молчал.
— Леша, — опять сказала она, и он увидел по ее глазам, что она испугалась и что она понимает, — сейчас произойдет ужасное. — Леша, — совсем тихо, с мольбой в голосе сказала она.
Тогда, почти не раскрывая рта, раздельно и внятно на все кафе он назвал ее коротким и оскорбительным площадным именем. И спросил:
— Съела?
В соседних кабинах поднимались люди. Гофман встал и, обдергивая на себе пиджак, крупным шагом подошел к Жмакину. Явился откуда-то кривоногий швейцар. Все стало происходить как во сне.
— Тихо, — сказал Гофман, — сейчас же тихо.
— Я вас всех убью, — скрипя зубами и наклонив вперед голову, сказал Жмакин. — Я вас всех порежу…
В его руке уже был нож, и он держал его как надо, лезвием в сторону и книзу. Подходили люди. Женщина в зеленой вязаной кофточке вдруг крикнула:
— Да что же вы смотрите! Он же пьян!
— Отдать нож, — фальцетом сказал Гофман.
Жмакин поднял голову и поднял нож. И тут, неловко присев, Гофман отпрянул за Клавдю. Нож в занесенной руке Жмакина дрожал. Он сразу не понял, что произошло. А когда понял, почти спокойно положил нож на стол, сказал «извините» и пошел к выходу. Его остановили. Он отмахнулся. Его опять остановили.
— Извините, товарищ, — сказал он, — мне идти надо.
И, чувствуя странную легкость в теле, вышел на улицу. Там его догнала Клавдя. Он посмотрел на нее, улыбнулся дрожащими губами. Она взяла его за руку и повела в «Пассаж».
— Ничего, ничего, — говорила она, — ничего, пойдем.
Он шел покорно, молча.
В углу возле автоматов они остановились.
— Ну, — сказала она, — что с тобой?
— Я тебя люблю, — ответил он, и губы у него запрыгали, — я тебя люблю, — повторил он со злобой, страстью и отчаянием, глядя в ее лицо, — слышишь ты? Я, я…
Спазмы мешали ему говорить.
— Не плачь, — голосом, полным нежности и силы, сказала она, — не плачь.
— Я и не думаю, — ответил он, — меня только душит…
И он показал на горло.
— Почистим желтые? — спросил вдруг из темного угла притаившийся там чистильщик сапог.
— Зачем ты с ним? — спросил Жмакин. — Зачем он тебе нужен?
— Оп мне не нужен.
— Давай почищу желтые, — опять сказал чистильщик и ткнул Жмакина щеткой в ногу. — Почистим, хозяин?
Взявшись под руки, они вышли на улицу и сели в садике. Жмакин все еще задыхался.
— А Федьку кинула?
— Потеряла, — сказала она, прижимаясь лицом к плечу Жмакина.
Он засмеялся, потом закашлялся и сказал:
— Я б его зарезал. Но только курей я не могу резать, извиняюсь. Курица твой Федька.
Кашляя, он тряс головой и крепко сжимал ее холодную руку в своей горячей, уже загрубевшей ладони.
— И тебя б я тоже зарезал, — говорил он, — слышь, Клавдя…