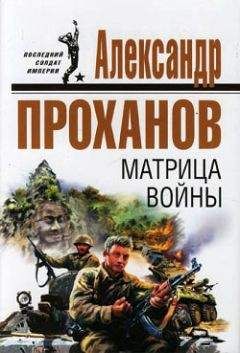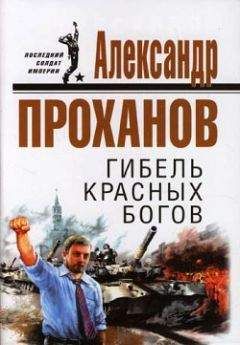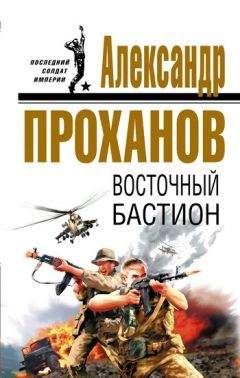Александр Проханов - Выбор оружия
Барабан рокотал. На плац выходили раненые, одолев свою немощь, поднявшись с больничных коек, в бинтах, опираясь на костыли и на палки, хватая за плечи товарищей. Несли на перевязях перебитые руки. Хромали, волоча забинтованные стопы. Мерцали из-под белых повязок запавшими глазами. Шли неровной распадающейся вереницей, показывая новобранцам свои увечья и раны, красные потеки бинтов. Мученики и герои озаряли новобранцев священными ранами, готовили их к будущим мукам.
Легкой пружинной поступью, словно шла на задание, кралась в кустах, одолевала минное поле, двигалась группа, готовая к рейду в Намибию. Белосельцев узнавал взрывника, который минировал рельсы. Диверсанта, клавшего заряд на опоры высоковольтной мачты. Санитарку с походной сумой. Радистку с тонкой антенной. Партизаны несли на плечах пулеметы, гранатометные трубы. Впереди, осторожный и чуткий, похожий на лесного охотника, шел командир. Белосельцев жадно смотрел на бойцов, помещал себя в их строй. Боевая группа, обреченная на смерть, прощалась с народом. Отражалась в лицах матерей и престарелых отцов, набиралась от них последнего прощального света.
Загремели струнные инструменты и бубны, тонко взыграли свирели и дудки, забили, загрохотали тамтамы. Появились плясуны и танцоры. Полуголые, с черными, натертыми маслом телами, в набедренных перевязях, опоясанные пучками перьев и трав. Подскакивали, ударяли в песок босыми стопами, крутили животами и бедрами, враз припадали к земле, воздевали руки к небу. Их гибкие молодые тела извивались, как черное пламя. Кого-то заклинали и звали, кого-то проклинали и славили. Их древний танец колдунов и охотников был исполнен ритмов Африки. Их движения и клики были исполнены магии ловцов, моливших божество об удачной охоте, о крупном звере, о благополучном возвращении домой. Но их руки сжимали не луки и дротики, а гранатометы и автоматы Калашникова. Они целились не в антилоп и слонов, а в бэтээры и танки. Падая на землю, они маскировали себя от вертолетов врага. Перевертываясь, уклонялись от очереди. Стреляли вверх из зениток по пикирующим «Миражам» и «Канберрам». Это был детский ансамбль учителя Питера. Танцоры, вытаптывая поляну, славили его, поминали, признавались в вечной любви. И учитель Питер смотрел из кроны священного дерева на любимых учеников.
Барабаны и свирели умолкли. Президент Сэм Нуйома шагнул из-под тенистого дерева на белое слепящее пекло. Стоял, темнобородый, высокий, дыша тучной грудью, обводя глазами народ. Укреплялся духом, чтобы ответить им всем на огромное, скопившееся в них ожидание. Заговорил, сначала вяло, чуть слышно, словно не в силах протолкнуть сквозь горло пыльный ком воздуха. Потом все громче, ясней, будто голос в нем разрастался, одолевал усталость, непомерное бремя, становился громогласным, рокочущим, летел над барханами, над железными касками, колыхал полотнище знамени, листву священного дерева. Огромный, мощный, чернобородый, как африканский языческий бог, воздел кулак, сжимая в нем ослепительную молнию, метнул ввысь. И возник контакт между ним и стоящим вокруг народом. Воины, старики, увечные калеки, матери с грудными младенцами, те, кто вернулся из боя, и те, кто отправлялся в поход, были единым народом, верящим, молящимся, отдающим себя на великие испытания. «О Намибия, ты будешь свободной!» – звучали слова песнопений.
Вновь ударили барабаны. Ряды шевельнулись, пошли. Колыхались, волна за волной, под заунывное пение, по пыльной траве и песку, по слепящему пеклу. Двинулись автоматчики, стиснув жесткие скулы. Раненые ковыляли на своих костылях, толкали инвалидные коляски. Старики и старухи, поддерживая друг друга, торопились, желали не отстать от молодых. Подростки и юноши, чернея вихрами, косичками, старались шагать в ногу. Единым дыханием, единым народом, сквозь муки и смерть, шли к завещанной цели, о которой звучало в песках: «О Намибия, ты будешь свободной!»
Белосельцев смотрел на шагавших, на двух замыкавших строй стариков, семенивших, не имеющих сил идти. Глаза его влажно туманились, превращали солнце в размытый радужный крест. Он нес этот крест над рядами, шагал вместе с ними.
Глава одиннадцатая
Грузовики, тускло светя подфарниками и хвостовыми огнями, колыхались в ночных песках, продвигались к границе. Белосельцев ухватился за борт, чувствуя, как на губах оседает теплая сухая пыль, как слабо, сладко пахнут пески. Его нога упиралась в железную трубу гранатомета, звякающую на ухабах, плечо прижималось к острому худому плечу партизана, гибко отступавшему при наклоне машины. Он был стиснут, сжат, окружен молчаливыми людьми и оружием, его неуклонно, неустранимо влекло в сторону минных полей, засад, колючей проволоки, сигнальных ракет, красных, пробивающих ночь трассеров, плазменных вспышек, криков боли и ненависти.
Грузовики двигались в узкой колее, с которой невозможно было свернуть, прочерчивали линию, по которой их втягивало в неотвратимое будущее. Но над головой был бесконечный простор и свобода, дышало мироздание, в котором летел прозрачный ангел, зажигал миры, как люстры, развешивал во Вселенной красные и золотые лампады, разбрызгивал стоцветную росу, звал к себе его любящую бессмертную душу.
Он вдруг подумал о Марии. Бархатно-темная, теплая, в каплях ночного света, она возникла на небе, словно лежала на отмели, омываемая океанской волной, среди мерцающих ракушек и водорослей. Она была африканским небом, теплой благоухающей ночью, живой одушевленной бесконечностью, в которую хотела переместиться неподвластная смерти душа.
Грузовики выехали из барханов на пустошь. Под звездами, черные среди звезд, возникли островерхие хижины. Пахнуло дымом, закраснел тусклый огонек очага. Грузовики встали, бойцы выпрыгивали, отваливали борта, стаскивали снаряжение.
– Селение Онго, – сказал Белосельцеву командир Жакоб, стаскивая на землю гранатомет. – Здесь краткий отдых, еда. Потом пешком к границе. Там мы с вами расстанемся. – К грузовику от хижин метнулось несколько быстрых полуголых людей, помогавших бойцам. – Тут наши друзья. Воду, еду дают. Обратно из Намибии отряды встречают.
Маленький костер догорал рубиновыми углями на пепельном кострище. Вспыхнул трескуче и ярко, когда полуголый, с острыми ключицами человек кинул хворост. Отошел, озаренный пламенем, к стене круглой, из кольев построенной хижины, крытой кипами тростника. Выглянули и исчезли любопытные женские лица. Долбленое корыто и растресканная деревянная ступа, освещенные костром, отбрасывали тень. Другой африканец, в тряпице на узких бедрах, с косматой бородкой, прошлепал к костру плоскими растресканными ступнями. Поставил на огонь чан с водой. Расстелил на земле циновку. Бойцы распаковывали мешки, выкладывали съестные припасы – бугристые клубни, хлебные лепешки, ломти сушеного мяса. Готовились к трапезе.
– Сюда, в Онго, прибудет завтра полковник Кадашкин. – Аурелио, озабоченный, недовольный, устроился рядом с Белосельцевым на теплой земле. – Нам с вами лучше переночевать здесь, в Онго. Дождаться полковника. Если «Буффало» нанесет удар по отряду, у нас с вами будет маневр к отступлению, мы не попадем под огонь. Вместе с Кадашкиным отправимся в расположение ангольских бригад. Примем участие в разгроме «Буффало». Зачем заставлять Кадашкина искать в песках наши оторванные головы? – Аурелио не оставлял надежды отговорить Белосельцева от его безрассудной затеи.
– Дорогой Аурелио. – Белосельцев мягко сжал его руку. – Вы замечательный товарищ и прекрасный друг. Поверьте в благополучный исход нашего рейда. Не лишайте меня возможности описать эту удивительную ночь, африканские звезды, партизанский поход. Все будет хорошо. Так говорит моя интуиция.
– Моя интуиция говорит мне, что утром наши оторванные головы будут лежать рядом, на песчаном бархане, и полковник Кадашкин будет искать ящик из-под пива, чтобы их довезти до Лубанго.
– Дорогой Аурелио, наши две головы будут завтра смотреть друг на друга, пить виски, а третья голова, полковника Кадашкина, будет радостно улыбаться и звать нас в гарнизонную баню.
– Не нравится мне эта затея, – угрюмо твердил Аурелио.
Началась короткая трапеза. Белосельцев принимал из смуглых рук кусочки вяленого жесткого мяса, ломти горячих, обжигавших губы клубней. Пил из глиняной грубой чашки пресный отвар. Огонь озарял жующие рты, фарфоровые белки, гибкие запястья и пальцы. Эта трапеза напоминала обряд преломления хлеба, где каждый получал свою долю от общей судьбы, сочетался с другим через хлеб, глоток травяного настоя, искры огня, озарявшие трубу гранатомета. И всех накрывало сверкающее волнистое небо, по которому катилось дыхание, словно подымалась темная женская грудь, чуть прикрытая мерцающей тканью.
Трапеза завершилась. Командир Жакоб поднялся, пронеся по головам свою быструю тень. Что-то сказал бойцам. Те разом встали, разошлись от костра. Звякали в темноте металлом, перемигивались фонариками. Возвращались к свету, выстраивались. Из дверей хижин вышли женщины, обмотанные по бедрам пестрыми тканями. Полуголые мужчины с худыми руками, костлявыми коленями, всклокоченными головами. Старик с обвисшей на ребрах кожей оперся на палку, стоял у костра, почти на углях, которые просвечивали сквозь его крупные, растопыренные пальцы.