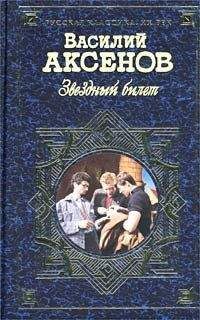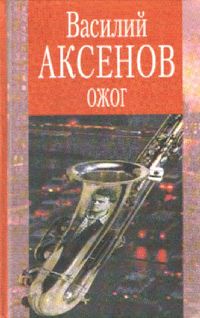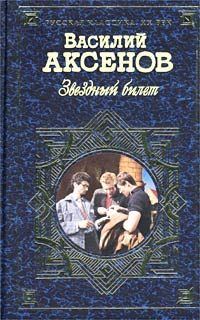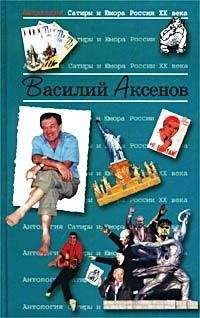Хаим Граде - Цемах Атлас (ешива). Том второй
Утром после свадьбы Юдес надела большой тяжелый парик и начала называть мужа «мой старичок». Она много работала в лавке и заботилась о его здоровье. Ей никогда не пришло в голову спросить, почему она должна мучиться и быть бедной торговкой мануфактурой в то время, как большие ешивы хотят, чтобы ее муж стал у них главой. Даже когда в базарный день он заходил в лавку помочь ей, она велела ему возвращаться в синагогу. Юдес хотела, чтобы он сидел и изучал Тору, а она его обслуживала. Вместо того чтобы радоваться, что слава мужа растет, она сердилась на его приближенных, как будто слава могла забрать его у нее. Когда какой-нибудь почтенный гость иной раз говорил: «Раввинша, вы хотя бы знаете, что реб Авром-Шая — это гений мирового уровня?» — Юдес быстро стирала улыбку с губ и отвечала: «Мы маленькие люди, благодарение Господу за это, главное, чтобы мой старичок был здоров». Но когда какая-то покупательница, разговорившись с ней, произнесла: «Люди говорят, что у вас муж — выдающийся знаток Торы», Юдес раскричалась: «Ненавижу женщин, особенно льстивых! Вы зашли купить отрез на платье? Покупайте материал и идите себе подобру-поздорову».
Реб Авром-Шая понемногу смирился со слишком крикливой и простоватой натурой жены. Но никак не мог привыкнуть к тому, как она обращалась с людьми. Махазе-Авром не стремился принимать гостей, но тем не менее был с ними радушен. В определенных случаях он даже ощущал, что его долг вмешаться, дать совет или вынести свой приговор. Однако жена не впускала к нему посетителей, а если он все-таки хотел принять гостя, то после его ухода она так хлопала дверью, что реб Авром-Шая вздрагивал.
— Он ведь думает, что ты едва дождалась, когда можно будет от него отделаться. Не делай так больше.
Пришел оптовик, торговавший мануфактурой, и говорил мягко, деликатно, что больше не может ждать, он обязан платить налоги и пальцы себе отрезает за грош. Он знает, что у раввинши муж — праведник и что она заплатит… Закончить он не успел, потому что Юдес набросилась на него с криком:
— Кто вас спрашивает, праведник ли мой муж? Идите отсюда, идите!
А реб Авром-Шая умолял ее:
— Чего ты боишься? Что ты беснуешься, когда говорят, что я праведник? Пусть себе говорят! Ведь словами они меня не сглазят.
С другой стороны, Юдес не отходила от гостя — знатока Торы, если он приходил к ним на субботу. Она постоянно напоминала ему, чтобы он ел и не стеснялся. При этом гремела тарелками, цокала каблуками и не переставая спрашивала гостя, какие блюда тот любит, как готовит его жена и радуют ли его дети. Лицо реб Аврома-Шаи прямо горело от неловкости, а после ухода гостя он выговаривал ей. Она ведь могла увидеть, что приглашенный — деликатный, слабый еврей. Может быть, у него больной желудок и ему нельзя много есть. Но если она пристает, он не хочет огорчать хозяйку и ест свыше своих сил. И не следует слишком много расспрашивать гостя о жене и детях. Ведь вполне может статься, что дети его не радуют. Однако, если его снова и снова спрашивают о них, ему приходится лгать или же он может расплакаться. Продумывать все так далеко наперед Юдес не умела, и терпения у нее тоже не было. Она отвечала мужу, что если он стыдится ее, то пусть больше не приглашает гостя на субботу. В другой раз, когда он снова попросил, чтобы она была поделикатнее с гостями, Юдес прямо взорвалась: она знает, что его семья не хотела их свадьбы и что он женился на ней из жалости! Он никогда ее не любил, как муж любит жену!
Чтобы он мог подольше отдохнуть от этой крикливой бой-бабы, его сестра Хадасса сидела с ним на даче до кануна Новолетия. Однако чем ближе становился отъезд, тем чаще реб Авром-Шая вздыхал и думал: «Дело сделано, он не должен раскаиваться в том, что в дни своей юности не захотел взять на себя греха и позорить еврейскую девушку. На свой манер Юдес — праведница, хотя ему тяжело, очень тяжело, и он не испытывает к ней особой симпатии… Он вздрагивал каждый раз, когда слышал о каком-нибудь сыне Торы, отменившем помолвку. По собственному опыту он знал, почему это случается среди изучающих Тору. Ведь они находят себе партии через сватов, и жених видит невесту всего пару раз перед подписанием тноим. Только потом понимают, что невеста неподходящая или что материальная сторона сватовства ненадежна. Однако то, что является оправданием для простого ешиботника, не оправдание для мусарника. Разве реб Цемах Атлас — человек, думающий о деньгах? Разве реб Цемах Атлас отменил сватовство из страха, что ему не выплатят приданого?»
Сам реб Авром-Шая не слышал, как громко он застонал. Хайкл пробудился от легкой дремы, и у него вырвалось:
— Что с вами, ребе?
За глаза и в мыслях он всегда называл Махазе-Аврома «ребе», но не лицом к лицу. Он чувствовал, что Махазе-Аврому неудобно это слышать даже от него, своего ученика.
— Со мной ничего страшного. Соблазн зла пугает меня, что если я засну, то могу проспать время, когда положено читать «Шма», — тихо рассмеялся реб Авром-Шая и рассказал историю про одного обывателя, пришедшего к раввину с вопросом: что делать? Он всю ночь не может глаз сомкнуть из страха пропустить время, когда положено читать «Шма». Раввин ответил ему, что это соблазн зла не дает ему спать по ночам, чтобы он заснул под утро и действительно опоздал встать на молитву «Шма» против соблазна зла! И раввин велел еврею вообще не читать «Шма», пока тот не перестанет бояться. Мораль этой истории такова, что в небесных делах, точно так же, как и в земных, надо жить по установленным законам. Если жертвуют собой ради кого-то выше всякой меры и там, где это не является необходимым, то может случиться так, что придется быть жестоким именно там, где надо проявить милосердие и жалость.
Махазе-Авром замолчал, и его мысли снова вернулись к директору ешивы реб Цемаху, отменившему помолвку из-за денег. Хайкл тоже больше не мог заснуть и думал, что какую бы историю ни рассказывал ребе, это всегда история с моралью. От этого становится очень печально. Махазе-Авром лежал, вытянувшись на спине. Его борода, днем золотисто-русая, в холодном лунном свете искрилась серым серебром, как кора осины. Ветер бросал в окно пригоршни увядших листьев, пропитанных влажным осенним запахом. Хайкл вдыхал свежий сырой ветер и хотел, чтобы комната наполнилась кружащимися листьями и чтобы они всё кружились и кружились. Однако он боялся, как бы ребе не простыл, поэтому спустился с лежанки и закрыл окно. Потом вернулся на лежанку и сказал, уже лежа:
— С тех пор как разъехались дачники и летние домики пустуют, мне каждую ночь кажется, что сам лес стоит снаружи опечаленный, не зная, куда себя девать.
Реб Авром-Шая выслушал его, а потом долго молчал, пока не ответил с улыбкой в голосе:
— Ты еще больший фантазер, чем я думал. Часто ты разговариваешь, как мой маленький племянник Береле. Тем не менее ты стал сдержанней, обстругался.
Небо затянули серые тучи, в комнате стало темнее. Потом тучи на мгновение раздвинулись, и в свете полной луны Хайкл увидел деревья на горе напротив. Они казались ему великанами с поднятыми к небу руками. Тут же снова набежали тучи, и в их немом движении появлялись и исчезали водянистые силуэты со странными большими головами. Они странствуют из одного мира в другой и приносят тайные вести Тому, кто восседает на троне на самой высокой небесной сфере.
— Как ты, Хайкл, вчера ночью рассказывал, и валкеникские, и декшнинские евреи отрицают, что распустили порочащие слухи о липнишкинце. И разум подсказывает, что местечковые обыватели не станут возводить навета на ни в чем не повинного илуя. Деревенские евреи тоже не будут возводить напраслину на ешиботника, приходящего к ним, чтобы учить с ними Тору. С другой стороны, очевидно, что кто-то сделал это, и сделал, вне всякого сомнения, преднамеренно. Ты не слыхал, кто бы это мог быть?
— На обратном пути от отца я зашел в ешиву и слышал там, что все подозревают библиотекаря. Он — бывший сын Торы, и он убедил учеников, которые ночуют в странноприимном доме, читать светские книжки.
— Завтра после урока ты должен пойти в местечко и узнать, что там делается, — реб Авром-Шая взбил подушку в надежде, что, может быть, это поможет ему заснуть. — Поскольку в Валкениках есть сила, действующая против ешивы, я боюсь, что это дело еще не закончилось.
Хайкл начал смеяться и разговаривать оживленно, как в полдень:
— Йоэла-уздинца прозвали «крепкая голова». Йосеф-варшавянин еще в прошлом году зимой взял у него ссуду в полтора злотых и не отдал. Йоэл-уздинец утверждает, что варшавянин взял ссуду с изначальным намерением не возвращать, так же, как он с самого начала и не думал жениться на кухарке Лейче, дочери рябой Гитл…
Ученик продолжал болтать, но ребе не отвечал, как будто уже спал. Каким-то уголком мозга он еще думал о том, что не надо ставить этого Йосефа-варшавянина перед испытанием и что не следует доверять ему чужих денег, особенно денег, которые дают на ешиву. Человек честный и прямой — это Йоэл-уздинец. И через смеженные веки реб Аврома-Шаи просочилась улыбка — знак того, что под его веками еще светло, как светло ясное и глубокое небо над затянувшими его тучами.