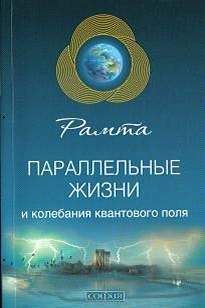Ганс Носсак - Избранное
Прекрасно, прервал подсудимого прокурор. Однако описание пейзажа он считает излишним. Его будущая жена, стало быть, жила у своих родителей?
Нет.
А где она жила?
Об этом он узнал только от ее родителей. Ведь он вообще не ведал, жива ли она.
Ближе к делу. Где жила будущая жена?
Напротив.
Напротив?
Да, в доме на холме по другую сторону ручья.
Отлично. Значит, в том доме жила его будущая жена?
Да, очень странная история.
Казалось, подсудимый настолько глубоко погрузился в свои воспоминания, что забыл о настоящем, о том, что он стоит в вале суда. Когда к нему опять обратился прокурор, он заметно вздрогнул.
— Нас интересует одно: каким образом состоялся ваш брак с женой? Все остальное можете спокойно опустить, — напомнил прокурор.
— Что именно вам хотелось бы знать?
— Как раз то, что я сейчас спросил. Вы, кажется, изволите потешаться надо мной? — Прокурор потерял терпение. — Что означает, например, замечание: моя жена спасла мне жизнь?
— От кого исходит это замечание?
— От вас, и только от вас, — возвестил прокурор с торжеством. — А если вы не верите, я готов представить его в письменном виде, эти слова сказаны в одном из писем, которое было найдено у вашей жены. Конечно, это письмо уже давнишнее. Хотите взглянуть на него?
— Нет, спасибо. Я вам и так верю.
— Не понимаю. Что означает ваша реплика?
— Не следует читать старые письма.
— Это мы уже слышали. В частном порядке можете придерживаться любого мнения, нас это не касается, но суду уж разрешите поинтересоваться старыми документами, коли он считает, что таким путем сумеет выяснить обстоятельства дела.
— Но ведь к делу это как раз не имеет никакого отношения.
— Предоставьте решение нам, пожалуйста. А теперь ответьте мне коротко и ясно: что подвигнуло вас на такое признание?
— Сейчас я бы выразился совсем иначе.
— Значит ли это, что сейчас вы пришли к другим выводам и не считаете больше, что жена спасла вам жизнь?
— В ту пору это, конечно, было правильно, потому я и написал эти слова. Очевидно, была причина.
— А теперь вы не в силах припомнить эту причину?
— Да.
— Или не желаете?
— Так мы не сдвинемся с мертвой точки, — сказал подсудимый председателю суда. — Это мое признание подобно травинке, которую сорвали на обочине дороги и сунули в рот. Или же куску хлеба, что подали голодному. Через минуту о нем уже не помнишь.
Председатель суда спросил прокурора, не правильней ли было покончить с этой проблемой, но прокурор настаивал на своем. Он считал, что подсудимый пытается с умыслом темнить.
Темнить? Подсудимый подхватил это словечко. Да, прокурор прав, все и впрямь очень темно, по никакого умысла у него не было. Надо же помнить, что он, подсудимый, трясся тогда всю ночь в вагоне и от усталости его даже слегка шатало. Особенно по дороге к дому ее родителей.
— Если бы я раньше навел справки, то, возможно, вообще не пошел бы к ним. Но на маленьком вокзальчике я заметил только начальника станции, он стоял у багажного вагона и разговаривал с машинистом. И еще на загрузочной эстакаде сидело трое парней — работников. На сельских полустанках по воскресеньям нередко околачиваются несколько парней. Эти ждали, вероятно, своих девушек, которые пошли в церковь. Парни были совсем желторотые, они наверняка никого не знали. Я не стал их расспрашивать. А по дороге не встретил ни одного человека, все были в церкви. Хутор ее родителей, окруженный плодовыми деревьями, казался вымершим. Ни души. Даже собачьего бреха я не услышал! И из трубы не поднимался синий дымок! Стояло воскресное утро. Да, я всю ночь трясся в поезде.
— Тем не менее…
— Никаких «тем не менее», господин прокурор. Вы должны понять, я никогда не думал о том, что увижу их снова. Много лет я был убежден, что они погибли: и родители, и моя будущая жена, да, все. И даже, если мне дозволено будет сказать, не рискуя навлечь гнев суда, даже себя я считал уже давно погибшим. Прошу прощения, суду это, несомненно, покажется странным, но сам я вполне привык к этой мысли. Дело в том, что судьба забросила меня в огромное красное строение с бесчисленными мрачными переходами, лестницами и дверями. Там были одни сплошные двери. Маленькие окошки никогда не мылись, таким образом люди экономили на занавесках; от подвала до чердака пахло кошками, луком и пылью. В этом доме никогда не было тихо, ни секунды; там суетились, как среди мертвых. В каждой кухне оглушительно хлопало белье, когда женщины развешивали его на веревках у окон, визжали дети, бранились матери, раздавались шаги по коридорам и лестницам, с треском закрывались двери, выбивались ковры, звякали связки ключей, грохотали кастрюли и ведра, ударяясь о раковины, свистели и гудели водопроводные краны, иногда так сильно свистели, что, казалось, лопнут трубы, с шумом спускалась вода в уборных. А когда возвращались мужчины или затемно уходили опять на работу, весь дом сотрясался от топота и шарканья; отовсюду неслось бормотанье, иногда брань, потом падало что-то тяжелое, скрипели кровати, раздавался храп; шум стоял день и ночь без перерыва, ни минуты покоя. А бесчисленные лица! Они примелькались, но ты их не запоминал, путал одно с другим. Летом тьма-тьмущая мух и жара, как в духовке. Красные стены поглощали тепло и не отдавали его. Там я был заперт.
— О каком здании вы говорите? — спросил прокурор.
— По-моему, вы зовете подобные доходные дома трущобами. Вполне подходящее название. Те, кто там обитает, страхуют свое имущество. Да, все там можно застраховать.
В зале раздался смех, как и каждый раз, когда подсудимый упоминал о страховке; поэтому он обратился непосредственно к публике:
— Да, во все времена их можно было застраховать. В том-то и состоит наше ремесло.
Председатель постучал карандашом по столу, прокурор опять возобновил допрос:
— Ну ладно, вы, стало быть, жили в этой трущобе. Но что заставило вас сесть в поезд и поехать, трястись всю ночь напролет, как вы выражаетесь, чтобы разыскать свою будущую жену?
— Это вышло случайно.
— Пожалуйста, расскажите об этом случае. Но как можно короче.
— Я считал, что вырваться из того дома немыслимо. Ни о чем не мечтал. Со всем примирился. Но как-то раз я указательным пальцем выцарапал узор на слое грязи, покрывавшем оконное стекло. А потом вдруг пошел в домовую контору и обратился к девушке, которая там сидела. Контора была крохотная, еле хватало места для пишущей машинки и для канцелярского шкафа, ведь каждый метр доходного дома должен был приносить доход. Из-за тесноты вся контора пахла девушкой. Девушка сказала, что я могу покинуть здание, выйдя через боковой вход, ото гораздо незаметнее. Сам бы я нипочем не догадался. Ну вот, и тогда я вышел из здания через маленькую боковую дверцу и прямым путем направился к вокзалу. Вот и все.
— Тогда вы еще не были страховым агентом?
— Нет. Им я стал потом. В ту пору я работал у налогового инспектора. Сидел за счетной машиной. Жалованье мне платила небольшое.
— Прекрасно. Но давайте наконец вернемся к вашей жене. Как вы с ней встретились в тот раз?
— Я тихо подошел к дому ее родителей. Тихо только потому, что там царила мертвая тишина. Я не хотел никого пугать. Открыл входную дверь, в деревнях не принято запирать двери. В сенях никого не было. И они выглядели точно так же, как раньше. И шкафы в них стояли точно такие же. Сени были довольно длинные и шли до самого конца дома. Только потолок был, конечно, побелен с тех пор — сводчатый потолок. Да. Но поскольку дом казался словно бы вымершим, я вернулся назад и позвонил. И звонок был точно такой же, как прежде. Маленький блестящий звонок на проволоке. Когда сильна потянешь за проволочку, язычок еще долго раскачивается. Звон был очень веселенький. Раньше я всегда с удовольствием дергал за проволоку. Я хочу сказать, что звонил без особой надобности, ведь дверь обычно не запиралась. Или же я обходил дом и обосновывался на заднем дворе. А не то сразу шел в беседку. На этот раз я потянул за проволоку очень осторожно.
— Оставьте в покое звонок. Суду это неинтересно. Что произошло после того, как вы позвонили?
— Мне пришлось подождать. Второй раз я, кстати, не стал звонить, одного раза было достаточно. Дело в том, что я услышал: слева, в большой комнате, отодвинули стул. Не очень громкий стук, нет, но все же. Вот почему я ждал. Кроме этого, ничто не нарушало тишину. В сенях тоже было совсем тихо. И там решительно ничем не пахло. Да, было воскресное утро. Разве я не сказал об этом? Я вижу нетерпение на ваших лицах, господа. Мне это понятно, я готов опустить подробности. Ведь эту историю я рассказываю без особой охоты, но если уж пришлось ее рассказывать, то надо рассказывать на свой лад, ибо, по-моему, тишина в сенях и чистота имели важное значение. Они имели важное значение для меня в то утро после долгой ночной поездки в поезде. Моя история не терпит нетерпения. Да, и тогда я не чувствовал нетерпения, хотя был голоден… Шагов я не услышал, потому что ее отец шел в одних носках. В толстых мягких носках, их вязала на спицах ее мать, а шерсть они пряли ангорскую, от ангорских кроликов. Отец показался мне меньше ростом, в моей памяти он был выше, хотя, по правде сказать, я никогда о нем не вспоминал. На самом деле он был маленького роста. Отец ее сразу узнал меня и не удивился, что я пришел и что я еще жив. Казалось, все это в порядке вещей, будто я каждое воскресенье утром приходил к ним в гости. И я тоже ничему не удивлялся: я слишком устал. Он пригласил меня в комнату, крикнув в соседнюю комнатенку: «Мать, иди-ка сюда». В большой комнате все осталось по-старому, ничего не изменилось. А потом вошла ее мать, и я обнял ее, хотя раньше никогда не обнимал, но и это тоже показалось всем само собой разумеющимся. Мать была такая бледная! Наверно, из-за больного сердца или от малокровия. Ужасающе бледная! Я ни о чем не спрашивал, и они меня ни о чем не спрашивали. Рассказал им только, что трясся всю ночь в поезде. Тогда ее мать принесла мне большую кружку молока, положила на стол ломоть хлеба и подала мед, желто-коричневый натуральный мед. Я ел, а ее мать плакала. Где-то, не помню где, у них стоял маленький радиоприемник, он был включен, но громкость была небольшая, передавали, вероятно, церковную службу, сперва слышался чей-то голос, потом запели хорал. Но все это очень тихо, радио нам совсем не мешало. Меня усадили на мягкий диван, раньше там сидели старшие, а мы, молодежь, довольствовались стульями — это бывало под вечер, когда угощали кофе с пирожным. И старые клавикорды еще стояли. Они всегда были донельзя расстроенными, а над ними между оленьими рогами висели часы с кукушкой, но часы не ходили, маятник был неподвижен. Мы говорили о моей поездке по железной дороге, о поле с красной капустой и о прочей ерунде. Они не спрашивали, что мне пришлось пережить, ибо давно считали меня мертвым и боялись огорчить, возбуждая неприятные воспоминания. И я не спрашивал об их дочери по той же причине. Да, они соблюдали величайшую осторожность. Не хотели взаимных попреков. Вот почему ее мать заплакала. Она упрекала себя, думала, что теперь уже ничего не поправишь. Напротив меня было окно. Я смотрел в него и все видел, хотя на подоконнике стояли горшки с плющом, который вился по стенкам оконного проема. Я смотрел на склон по ту сторону ручья, на темные облака, которые проплывали над холмом, смотрел, как на секунду выглядывало солнце. Я не выпускал из глаз окно. Быть может, кто-нибудь сойдет по склону, думал я. Но когда я возвращался мыслями в прошлое, то сознавал, что никто, кроме меня, не мог спуститься. Да и солнце светило вниз, на ручей, словно стеснялось, не хотело освещать верх холма. Ведь наверху стоял дом. Дом этот наверху по другую сторону ручья, господа, принадлежал в былые времена моим родителям, это вам необходимо знать. Родители купили дом и слегка перестроили его, чтобы нам, детям, было где проводить лето. Каждое лето мы по многу месяцев жили там, и тамошние места стали как бы нашей родиной. Да нет, не потому, что дом принадлежал моим родителям, а потому… потому… что другой дом, дом, в котором я теперь сидел, казался мне как бы моей родиной. Все угодья родители сдавали в аренду соседям, родителям моей будущей жены. Впрочем, дом по ту сторону уже давно не был нашим, после смерти отца его продали, не знаю уж кому. Семье понадобились деньги, так мне по крайней мере сказал кто-то. Да я и не углублялся в это дело, потерял связь с тем, что осталось позади. Не знал, кто живет в нашем старом доме, считал, что меня это не касается. А сейчас, когда я сидел на диване, и смотрел, как солнце и облака попеременно проходят над склоном, и слушал наши разговоры, в тихий лепет радио, и всхлипывания ее матери, мне казалась, что все это, наверно, похоже на то, что испытывает умирающий, который еще раз обозревает прошлое, удовлетворенно, терпеливо. Извините, господа, что мои мысли были таковы, я ведь не знал, что жена моя живет со своим мужем там, на другой стороне ручья.