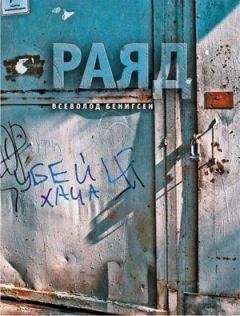Всеволод Бенигсен - ГенАцид
Антон икнул и замотал головой:
— Не-а, потому что я тебя как раз за это и ув… важаю.
— Ну вот, — усмехнулся Зимин. — Хотя, если честно, я немногим больше тебя знаю. Он просил направить его на спермограмму.
— На что? — приоткрыв один глаз, удивился Антон.
— На наличие возможности оплодотворения. Больше ничего не могу сказать. Всё?
— Всё, — кивнул Антон, не поняв ничего. — Тогда я пошёл.
— Тогда иди.
Когда Антон вышел на улицу, ему полегчало. Видимо, организму в условиях внезапного холода стало не до алкоголя в крови, и он все силы бросил на поддержание внутренней температуры. Антон дошел до калитки и обернулся. Дом Зимина был маленьким и темным. Но в окне одной из боковых комнат — ему вдруг показалось — он видит детское лицо. Может, померещилось, но тогда он был уверен — прижавшись к стеклу, на него смотрела Лерочка. Антон, стараясь выглядеть максимально доброжелательно, расплылся в улыбке и помахал ей рукой. Но Лерочка в ответ не улыбнулась — она выждала пару секунд, а затем приподняла плюшевого мишку, которого держала в руке и, взяв того за лапку, помотала лапкой в ответ.
«Даже Мишка со мной прощается», — подумал Антон, выходя за калитку. Правда, хорошо это или плохо, он уже был не состоянии понять.
Выйдя за калитку, Антон мучительно начал соображать, в какую сторону идти. Ему вдруг показалось, будто он впервые очутился в Больших Ущерах. Всё вдруг стало чужим и незнакомым — и фонари, и дорога, и темные ряды домов. Как будто и не жил он здесь вовсе. И не было восьми лет, проведенных среди пыльных библиотечных полок. И не было разговоров «за жизнь» с Зиминым и Климовым. И не было майора. И не было Гришки. Как будто вообще ничего не было. И никого. Нет, Нина была. Была. Но Нина была, потому что она есть. И будет. А всего остального уже нет, потому что уже не будет. Он перевел дыхание, наклонился, зачерпнул горсть снега, протер этим снегом лицо, фыркнул и, отплевываясь, поднял голову.
Перед ним стоял Сериков.
От неожиданности Антон отскочил и чуть не упал, поскользнувшись. Но Сериков успел подхватить его за рукав, и Антон удержался на ногах.
— Ты что, Серега? Так же ж мо-можно человека на тот свет отправить. Тьфу!
— Извини, Антон. Я не хотел.
Сериков был странно спокоен. Антону показалось, что пошлое поэтическое выражение «светел и печален» удивительно точно подошло бы сейчас к Серикову. Он был именно светел и печален.
— Ты ведь не в обиде на меня? — спросил Сериков, участливо глядя на Пахомова.
Антон несколько раз моргнул, пытаясь сфокусировать взгляд на лице Серикова.
— Да нет… да и не за что… вроде…
— Ну, я просто думал, что достал тебя… разговорами этими. Чеховым… сыном.
— Да нет, Серёг, все это… нормально, — успокоил его Антон, хотя ему уже хотелось домой. Очень хотелось.
— А может, и нет… Ну, в смысле, никакого смысла нет? — вдруг спросил Сериков.
Антон почти застонал.
— Да нет, Серёг, есть. Это. Должен быть. Смысл. Антон подумал, что его заплетающаяся от алкоголя речь удачно сочетается с косноязычием Серикова. Как будто они наконец обрели общий язык. Сериков недоверчиво покачал головой.
— А вообще, жизнь, — решил подбодрить Сергея Пахомов, — это… как колесо обозрения. Только открывается п-п-перспектива — как тебя опускают.
И засмеялся собственному афоризму. Но Сериков даже не улыбнулся.
— Знаешь, я ведь тут… ну… в райцентр мотался. В больницу. Зимин направил. Провериться.
— И что? — спросил, икнув, Антон.
Сериков отвернулся и посмотрел куда-то за спину Пахомова.
Какое-то время помолчал, а потом произнес, по-прежнему не глядя Антону в глаза:
— Сказали, что привет. Бесплодие.
— Как это? По… погоди. У тебя ж сын.
— Да какой там сын! — раздраженно мотнул головой Сериков. — Она мне письмо прислала. Сегодня. Мол, нет у тебя сына. Просрал ты его, Серега. У него есть отец, и всё. И не вздумай даже заявляться. Не тот, короче, отец, кто один раз молодец. И всё в таком духе. А я.
Сериков вдруг опустил голову, и Антону показалось, что тот быстро провел по лицу ладонью, как будто что-то вытирая.
— А я, — продолжил Сериков, подняв голову и снова уставившись куда-то за плечо Пахомова. — Я, короче, всё сдал… ну а мне сказали: грыжа у тебя… Я ж три года на стройке отработал. Таскал там всякое. Вот и аукнулось. Теперь без детей, короче. А тот, что есть, и не сын вроде. Понимаешь?
— Уффф… — выдохнул Антон, покачнувшись и не зная, что ответить.
— Дали… и отняли. Понимаешь? — он посмотрел на Антона с какой-то собачьей тоской в глазах.
Неожиданно Антон увидел Серикова. Не того, которого он знал (или не знал?). А просто человека, что ли, — такого же, как и он, со всем его жалким скарбом проблем и сомнений. Со всем его коротким прошлым и не менее коротким будущем. Во всей его красоте и убогости.
Антон вдруг с какой-то внезапной горечью подумал, что никогда не мог, не умел, да что там — даже не пытался поставить себя на чужое место. Ни на Нинино, ни на родительское. Ни на чье. Он всегда был только на своем месте и видел свой мир своими глазами. Ему даже стало стыдно за это свое себялюбие. «А ведь, если глянуть на мир чужими глазами, то всё выглядит совсем иначе». Эта банальная до нелепости мысль показалась ему, возможно из-за алкоголя, очень оригинальной. И он даже попробовал ее развить. Нет, сериковская вселенная была не очень интересной, но она была. «Моя, наверняка, не намного интересней», — подумал Пахомов и прищурился. Затем замотал головой в разные стороны. Только сейчас он заметил, что Серикова рядом нет, — он уже шагал прочь по дороге куда-то в темноту.
Эх, окликнуть бы его Антону сейчас — глядишь, всё пошло бы по-другому. Но колесо истории крутится всегда в одну сторону. И оно уже зацепило Пахомова одной из своих многочисленных шестеренок и потащило за шкирку куда-то, то ли наверх, то ли вниз. И Пахомов это чувствовал. Чувствовал, что все идет по чужой воле, рыпайся — не рыпайся, а с крючка не сорвешься.
Ох, надо было! Надо было бы окликнуть Серикова, но сил не было. Да и желания тоже. А Сериков уходил все дальше и дальше — и теперь, даже если крикнуть, уже не услышит.
Антон еще раз вытер лицо снегом, потоптался на месте, снова глянул в сторону Серикова, но того уже не было видно. Надо было идти домой. «Кажется, мне направо, если Сериков пошел налево», — попытался сориентироваться Антон в колючем пространстве ночи. И неуверенной походкой двинулся в сторону своего предполагаемого дома.
О Сергее он вскоре забыл, тем более что мысли путались и толкались, и близился миг расплаты: бесконечные укоры Нины, что ничего не собрано, что времени в обрез, что ему нельзя пить, и прочее. Так, погруженный в свои сбивчивые размышления о судьбе, жизни и прочих философских материях, Антон добрел до дома.
25
Новость о самоубийстве Серикова мгновенно облетела всю деревню. Уже с самого утра все большеущерцы от мала до велика столпились у дома покойника, наперебой выдвигая свои версии (естественно, одну нелепее другой), галдя, споря и вообще всячески мешая следствию, а точнее, невыспавшемуся и оттого злому Черепицыну, который, сидя на сериковской кухне, составлял протокол.
Мать Серикова уже была опрошена, да только она ничего не видела — сын вернулся поздно, часов в шесть утра, а она в пять, как обычно, уже была на ногах и отправилась к старшей сестре — та была больна и ей требовался уход. А вернулась уже в девять, и около дома было настоящее столпотворение — все хотели поглазеть на «висельника». Бедная мать еле протиснулась. Черепицын скрупулезно записал ее сбивчивый рассказ, хотя она, похоже, была настолько обескровлена потерей сына, что и говорить толком не могла. Теперь она сидела за столом, с каким-то неуместным вниманием слушала показания остальных свидетелей и изредка поглядывала на Зимина, который составлял заключение о смерти.
«Остальными свидетелями» был, собственно, только один человек, а именно дядя Миша. В восемь утра он решил заскочить к Серикову, чтобы, как он выразился, «отовариться», — Сериков накануне пообещал продать ему свою удочку.
— Что, вот прямо приспичило в восемь утра? — мрачно спросил Черепицын.
— А ты меня не подлавливай! — вспылил дядя Миша. — Таких, как ты, в мое время, знаешь.
— Знаю-знаю, вжик, и к стенке. Лекцию по древней истории мне потом читать будешь. На вопрос ответь сначала.
Дядя Миша сразу сник и недовольно зашамкал губами:
— Просто пенсию получил. А Серега мне давно ее хотел продать. Точнее, я его просил. Хотелось что-то для души купить. Боялся раньше потратить.
— Пропить, что ли? — спросил, не поднимая головы, сержант, но, заметив, что на подходе очередной взрыв эмоций, смягчил тон. — Ладно, ладно, не шуми. Это я так. Со сна немного такой… смурной. Значит, ты говоришь, он хотел тебе ее продать?