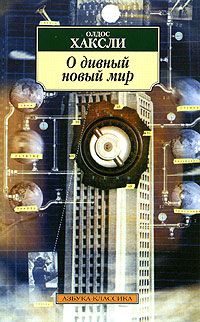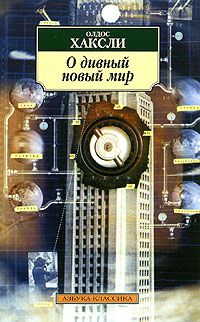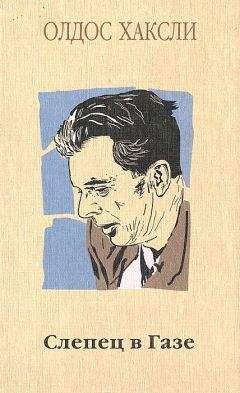Габриэль Маркес - Жить, чтобы рассказывать о жизни
— Что ты будешь на ужин?
Муж, икнув, прорычал:
— Дерьмо!
Тогда супруга подняла тарелку и сказала ему с кротостью святой:
— Оно уже подано, милый.
И тогда, рассказывала мама, муж уверовал в способность супруги творить чудеса, в ее святость — и сам обратился к вере в Христа, стал праведником.
Новая аптека в Барранкилье стала грандиозным провалом, который едва смягчило время. И скорость этого падения в бездну все-таки была предсказана моим отцом. Несколько месяцев он как-то отчаянно пробавлялся розничной торговлей, при этом сквозняк от латания одной дыры гостеприимно раскрывал двери в две новые, открытые настежь всем ветрам. И в конце концов положение наше стало напоминать зыбкое суденышко с пробоиной.
Однажды отец собрал свои дорожные сумки и ушел по неустойчивому трапу с парохода семейной жизни. А капитан корабля вскользь объяснил своей команде, что идет на поиски несметных богатств к берегам реки Магдалена. Правда, не очень уточнив отдаленность этих капиталов. Скорее всего отец и сам не был уверен, что найдет эти неожиданные залежи денег в поселениях-полумиражах. Но его уход не был банальным побегом крысы с тонущего корабля, нет!
Мой отец был не способен на это в душе. Торжественно явив меня своим партнерам и друзьям — как истинный патриарх, — он объявил, что отныне я — его надежда и опора во время отсутствия главы семьи. Чем немало удивил всех, включая меня. Шутка ли это была, полуправда или он действительно возлагал на меня, двенадцатилетнего тощего, бледного мальчишку, какие-то смутные надежды — я так никогда и не узнал. Затейник он был, мой отец. Шутил в горе и был серьезным в радости…
Думаю, что каждый понял его слова по своему усмотрению. Но могу сказать, что вид мой — анемичного тщедушного ребенка — представлялся окружающим годным только разве что рисовать да песни петь. Молочница, продававшая нам молоко в долг, как-то при мне сказала матери с искренним состраданием на лице и печалью в голосе:
— Извините, что я вам говорю это, сеньора, но, думаю, этот ребенок не проживет долго.
Какое-то время во мне жил липкий холодный страх постоянного ожидания внезапной смерти. Нередко, глядя в зеркало, я представлял себя теленком. И сидел этот теленок в безопасной материнской утробе…
Боже, чего у меня только не обнаруживали школьные доктора! И малярию, и тонзиллит, и черную желчь. Последняя болезнь, по утверждениям местных эскулапов, возникала на почве беспорядочного неуемного чтения.
А я и не пытался вовсе никого переубедить! Иногда я даже преувеличивал свою природную немощь/что позволяло мне ловко увиливать от своих обязанностей.
Торжество и вместе с тем трогательность прощальной сцены отец обставил со свойственным ему искусством, сравнимым разве что с искусством тореадора. А назначение меня преемником уходящего за славой кабальеро, благородного дона, наверное, даже превосходило мастерство последнего.
— Как если бы это был я сам!
Не иначе такими интонациями в голосе в изобилии обладали собравшиеся в поход за удачей и деньгами соратники самого Христофора Колумба!
В последний наш совместный с отцом день мы собрались в зале. Вся семья получила последние наставления и порицания на будущее. За то, что вдруг мы могли бы совершить нечто неправильное, нехорошее, бесчестное в его отсутствие. Но по интонациям отца все поняли, что это такой ход… придуманный им.
Отец не хотел, да и не мог видеть наших слез… слишком больной была эта сцена, это расставание. И все это чувствовали.
Он дал каждому из нас монету в пять сентаво, которая казалась маленьким состоянием для любого ребенка в то время, и пообещал обменять их на такие же две, если мы не истратим свои монетки до его возвращения.
Наконец он обратился и ко мне, в почетном евангельском стиле и едва ли не в стихах:
— В твоих руках их оставляю, в твоих руках их обнаружу.
Мое мальчишечье сердце обливалось кровью. Что-то оборвалось у меня внутри, когда я увидел его спину с дорожной сумкой на плече, его фигуру в высоких сапогах. И какие-то шлюзы, сдерживающие потоки слез, по-детски горьких, отчаянных, открылись со взрослой силой, уже не телячьей, как раньше, и я зарыдал.
Зарыдал первым, несмотря на свое назначение главой семьи и особое положение, которое обеспечивали милость и повеление отца.
Боже мой! Только когда он оглянулся в последний раз, прежде чем повернуть за угол, только в тот миг, когда помахал нам рукой на прощание — только тогда я осознал первый раз в жизни свою безграничную любовь и сыновнюю благодарность к отцу. И это чувство — больное, раненное его уходом и вместе с тем невыразимо нежное и трепетное — я пронес через всю свою жизнь и пронесу до конца.
Отчего-то мне не было сложно выполнять его поручение быть главой семьи… Мать постепенно начинала привыкать к странному, не по возрасту и оттого неправильному одиночеству и почти управлялась с этим чувством. Хотя и против собственной воли, без женской радости, но со странной легкостью не обреченности, но смирения.
Порядок в доме и вкусная еда стали приятной необходимостью настолько, что даже младшие помогали в домашней работе и делали это хорошо. Наверное, в этот период у меня впервые и проснулось осознание собственной значимости Для семьи, настоящей взрослости. Случилось это, когда я понял, что мои сестры и братья начинали относиться ко мне, как к дяде.
В общем-то я так никогда и не сумел справиться с застенчивостью. И когда был вынужден сталкиваться лицом к лицу с поручениями, которые возложил на меня мой вечный скиталец-отец, я вынес для себя своеобразный урок: застенчивость — это призрак, мираж, который очень сложно победить.
Каждый раз, когда должен был попросить о займе, даже по договоренности и даже в магазинах друзей, я терзал свой мозг и ноги часами, нарезая круги вокруг дома, до колик в животе сдерживая нестерпимое желание заплакать.
И заходил в дом к заемщику с такими зажатыми от неловкости и стыда челюстями, что не мог даже говорить. Однажды один не сильно добросердечный лавочник просто окончательно оглушил меня: «Трусливый мальчишка, ну пойми ты наконец, что ничего нельзя сказать, не открыв рта!»
Сколько раз я возвращался в дом с пустыми руками и придуманной отговоркой!
Но таким жалким и никчемным, как в тот момент, когда я осмелился вдруг начать говорить по телефону в угловом магазине, — таким убогим я не был никогда. Я никогда больше не чувствовал такой своей ущербности, как в тот раз.
А дело было так. Добрейший хозяин помог мне с оператором, потому что в то время еще не существовало автоматической службы. И вдруг — ужас! Я почувствовал буквально дуновение смерти, когда он дал мне рожок. Я взял этот предмет, как хрустальный кубок, почти с благоговением. Я ждал ЧУДА — вежливого голоса, но то, что мне пришлось услышать, повергло меня в шок и ввело в ступор. Это был не голос человека, это был натурально лай кого-то, кто говорил в неизвестной темной бездне пространства, причем в то же самое время, что и я. Подумав, что мой собеседник просто не слышит меня, я заорал в этот чертов рожок во весь голос.
А тот, из преисподней темноты и пустоты, разъяренный моим ревом, в свою очередь, заорал дурниной:
— А ты какого хера глотку дерешь, дебил недоделанный?!
Я в ужасе повесил трубку.
Должен признаться, что, несмотря на всю мою бурную жизнь позднее, я так ведь и не смог преодолеть какой-то даже животный свой страх перед телефонной трубкой и пришедший позднее страх перед самолетом. Вот так и вынужден постоянно подавлять этот ужас-призрак. Призрак, мираж, преследующий меня из моей юности.
Даже не представляю, как же я смог в конце концов прийти к тому, чтобы хоть что-то сделать. К счастью, моя мама нередко говорила: «Нужно много страдать, чтобы много уметь».
Первое письмо от отца пришло через две недели. И скорее отец хотел поддержать нас, нежели что-то рассказать о себе и своей новой жизни. Прочитав это письмо, мама совершенно точно почувствовала отцовскую недосказанность и в тот день мыла тарелки на кухне напевая, чтобы поднять нам настроение.
Без отца она стала совсем иной: присоединялась к дочкам, словно сама была им сестрой, а не матерью. Она приноровилась к детям настолько хорошо, что была лучшей в их детских играх, даже с куклами, и дошла до того, что теряла терпение и ссорилась с ребятней на равных.
Такими же были и два других письма от отца, с фантазиями настолько реальными и обнадеживающими, что мы все стали лучше спать.
Одежда наша очень быстро пришла почти в полную непригодность. Это очень удручало всех и становилось уже трудноразрешимой проблемой для меня, как для маленького главы большого семейства. Штаны и рубашки Луиса Энрике не доставались в наследство никому. Да это и не представлялось возможным, потому что несчастный Энрике возвращался с улицы, по меткому маминому выражению, словно отгулял между рядами колючей проволоки. И мы определенно не могли понять, отчего это происходило, причем постоянно.