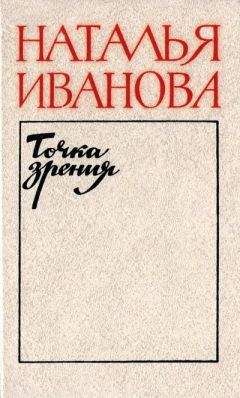СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН - После бури. Книга первая
Бога надо освободить от слишком разговорчивых людей, вот в чем дело. Освободить от всего лишнего, но оставить его мыслью исторической, общественной, главной во всем на свете.
Такой был этот новоявленный Лютер — крохотный реалист...
Корнилов долгое время был очень небольшого роста и только в последнем классе кое-что наверстал.
После своего открытия он стал учиться так себе, ни двойки, ни пятерки, к ужасу взрослых, больше не волновали его.
Он если и влюблялся в гимназисточку из соседнего дома, в свою кузину-курсистку, когда она приезжала на каникулы, или в дочку прислуги Аннушки, так и это не очень сильно усложняло его жизнь. «Вырасту, доберусь до бога, а тогда, само собою разумеется, полюблю умную!» Его тревожило другое: нужно было вырасти, но остаться таким, каким создал его бог для предстоящей встречи между ними.
Так шла бы себе и шла его жизнь-мысль, уверенная в себе и во всем мире, но однажды случилась катастрофа, от открыл-таки книгу под названием «История общественной мысли в России» и стал читать ее постранично, построчно, пословно, а чем пословнее он читал, тем больше убеждался в том, что в книге этой была кое-какая история, вернее, хронология, кое-что русское, например русские имена и фамилии, в каких-то частностях было немного чего-то общественного и совсем не было мысли.
То есть как была она поделена между людьми повсюду в жизни, мысль, так же была поделена она и здесь между точками зрения, между авторами и авторитетами, между школами и направлениями, ну, а поделенная, она и вообще могла не принадлежать никому, кто сколько хотел и мог, тот столько ее и приобретал, можно было и совсем обойтись без приобретений, а чтобы мысль была необходима всем без исключения, как воздух, чтобы она была неделимой, этого не было и в помине! Вот так общечеловечность, ничего себе!
Таких обрывков и клочков общечеловечности он вот как — по горло! — наслушался в разговорах присяжных поверенных, государственных служащих, на уроках закона божия и на других уроках, так ведь чего-то ради он уходил от этих разговоров, чего-то ради грозил бездельникам: «Вот подождите, вырасту, созрею, уж тогда я вам...»
А теперь чего «я вам»? Теперь ничего другого не оставалось, как признать за бездельниками их превосходство, а за собою поражение.
Вот какую ошибку, какую небрежность — детскую, незначительную, а в то же время огромную — он допустил: ему бы прочесть «Историю... » сразу же и от корки до корки, но он все откладывал и откладывал этот праздник, все боялся и боялся помешать чтением совершению собственных, так явственно зреющих в нем открытий, которые состояли, как понимал он теперь, задним умом, в предчувствии главной мысли... Оказалось, что главной-то и нет не только в «Истории...», но и у него самого, что предчувствия были самообманом, самонадеянностью, самоутешением, еще и еще «само», и нигде — общечеловечностью... Он снова оказался один на один с заголовком «Истории...», но заголовок этот был уже только лозунгом, за которым не оказалось ничего, что доказывало бы его и утверждало.
Он даже и на автора «Истории... » не очень обиделся, должно быть, автор прошел через тот же самый искус и через то же самое заблуждение: лозунг его прельстил; лозунг он напечатал жирным шрифтом на заглавном листе своей книги, а шрифт, обычный, нежирный, оказался бессильным наполнить его истинным смыслом.
И так юный Колумб перестал им быть, впрочем, время шло, он уже и не был очень-то юным и удивился тому, как легко принимает человек свои предчувствия за чувства, свою практику за мечту, а мечту за практику, свои предзнания за знания, и вот он бросился на поиски потери, живое тепло которой он все еще продолжал явственно ощущать в своих руках, во всем своем существе, но что бы, где бы и у кого бы он ни читал, все было не то, все ничуть не соответствовало той общечеловечности, с которой он начал осознание и самого себя, и мысли вообще. Даже в энциклопедиях и в тех не оказалось такого понятия — «общественная мысль». Были общественно полезный труд, общественно опасные действия, общественные организации, общественный порядок, было «общество равных» и «общество соединенных славян», но общественной мысли не было, должно быть, составители энциклопедий считали ее слишком большим, прямо-таки необъятным понятием или же понятием ничтожным, не заслуживающим их снисходительного внимания. И в церковных книгах и в Коране то же самое: бог, промысел божий, но где же мысль? Не христианская, не исламская, не исключающая одна другую, а обязательная для всех, для каждого?
Настали трудные времена.
Настолько трудные, что, кажется, только нынче на семенихинской скважине Корнилов понял всю их трудность, а еще понял нынче он, что именно тогда-то, в те времена, он был особенно близок юноше Ване.
Ваня тоже ведь искал мысль общечеловеческую и общеобязательную, и она явилась к нему кошмаром «Книги ужасов», ужасов насилия, бессилия, а также блудного слова, но все равно они были когда-то в одном поиске, и вот спустя столько лет Корнилову показалось, что Петя и Ваня находились когда-то в одном доме, в одной квартире, только в разных комнатах... Помнилось ему, за стеной, у жильцов-соседей, кто-то тогда сильно кашлял по ночам, так это, наверное, Ваня был, он и кашлял. Интересно, как выглядел-то юный Иван Ипполитович? Нынче казалось, будто Иван Ипполитович никогда юным не был, да и не мог быть, но ведь был же?!
Был такой неуклюжий, некрасивый, невежливый, нелюдимый, недобрый и все-таки юный Ваня?
Впрочем, и хорошо, что они тогда не встретились, Петя с Ваней.
Есть такие состояния юности и юной мысли, когда они должны оставаться один на один с самими собой для того, чтобы укрепиться или же развиться во что-то иное и дальнейшее.
Трудное время продолжалось тогда, год, за этот год он и почувствовал границу между возможным и невозможным мышлением в самом себе, потому что все время думал над тем, как его мысль должна понимать себя, как должна она различать то, о чем она может и вправе догадываться и чего не может и не должна касаться, так как, переступив свои возможности, мысль погибнет, превратится в нечто противоположное самой себе.
То есть он выработал в себе ту мысль, которая есть отношение к собственной мысли.
Между прочим, отношение к мысли, как он выяснил, оказалось вопреки первым впечатлениям очень чувственным.
Он представил эту мысль об отношении к мысли сначала в образе строгого учителя математики, тем более что математика никогда ведь не была ему предметом чуждым и старик-математик тоже.
Оказалось же, что перед ним не учитель, а учительница, и не математики, а пения, не то еще какого-то предмета свойств далеко не определенных, а в то же время точных, не дай бог спутать «ре» с «ми», не вовремя раскрыть или закрыть какие-нибудь скобки!
С ней, с этой учительницей, надо было взять правильный тон, может быть, даже немного иронический, но опять-таки не дай бог — фамильярный, с ней надо было держать ухо востро. Он даже и не знал, а кто вообще-то это умел — без ошибок с ней держаться? Чехов, что ли? Антон Павлович? Во всяком случае, никто другой ему не припоминался.
Но — нет, нет и нет! — не так уж был он несчастен, не так уж были бессмысленны его предчувствия, не столь уж бесповоротной была его ошибка и небрежность, когда он не сразу же открыл и от корки до корки не прочитал «Историю... », а еще долгое время жил идеей одного только заглавия, и одних только предчувствий, и только самим собою...
Нет, и когда реалист стал студентом-естественником Петербургского университета и отец снял ему прекрасную квартирку из двух комнат на 5-й линии Васильевского, и он вошел туда, в эту квартирку, одетый в новую университетскую форму, только что безо всяких затруднений — опять-таки к полному недоумению родителей — сдавший вступительные экзамены, он опять нисколько не сомневался в том, что именно здесь, в четырех уютных стенах, он исполнит наконец свое предназначение, что...
Да что там говорить, так и было, он увлекся натурфилософией, он стал приват-доцентом, он снова верил, что еще лет десять, не больше, и его нормальность создаст ту общечеловеческую мысль, которую не могли создать все, вместе взятые, ненормальные гении, но тут объявился кайзер Вильгельм Второй со своим «немецким духом» и с угрозами всему не немецкому. Вот эти угрозы и натурфилософу было не под силу перенести спокойно.
И он решил сначала свести счеты с нахалом, а потом снова вернуться к самому себе.
Как раз к этому времени у него наконец-то возникло подозрение: не маловато ли он, в самом деле, пожил и повидал — повидал человеческих страданий, лишений, жизни и смерти? Не мало ли для той задачи, которая перед ним стояла?
Так оно и было: наступило время совершить серьезную и поучительную экскурсию в жизнь, в войну и в мир, а уже после этого вернуться в свою сначала студенческую, а теперь приват-доцентскую квартирку на Васильевском, он ни за что не хотел оставлять этих комнат хотя бы и по причинам своего возвышения в науках. Он вернется именно сюда с сознанием того, что он воткнул-таки перо немецким философам — они-то из своих квартир, со своих кафедр носа не показывали, вот им и удавалось приблизить людей к миру ровно настолько, насколько они тех же людей от реального мира отчуждали.