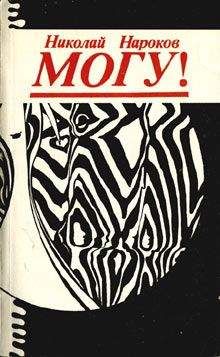Николай Нароков - Мнимые величины
То, что он понизил голос, то, что он говорил доверительным тоном, и то, что он сказал — «ты совсем свой человек», не только успокоило, но и укрепило Яхонтова. Он почувствовал себя связанным с Любкиным и Супруновым, а это даже льстило ему: «Любкин, Супрунов и я — в одном деле!» Он выпрямился на стуле и стал смотреть гордо.
— Я тебе откровенно скажу, товарищ Яхонтов, — с подкупающей простотой продолжал Супрунов, — я нашими ребятами не совсем доволен: старания в них, конечно, много, не стану спорить, а вот мозгу мало. Таких мозговитых, как ты, — один-два да и обчелся. И начальник то же самое говорит: «Хорошо, говорит, что это дело к Яхонтову попало. Другой стал бы дурака валять, а этот сразу правильный путь нашел: сам — молчок, а дело — по начальству». Так?
— А как же иначе? — солидно пожал плечом Яхонтов.
— Ну, да! Ты-то это понимаешь… Начальник, надо тебе сказать, давно уж к тебе присматривается, потому что ему особый человек сейчас нужен. Строго доверенный! Погоди-ка…
Супрунов встал с места, осторожными шагами подошел к двери, приоткрыл ее и выглянул в коридор. И по этому жесту Яхонтов понял, что сейчас начнется важный и секретный разговор. Он постарался принять сдержанный и спокойный вид.
Супрунов вернулся, но сел не на свое место, а рядом с Яхонтовым, и стал говорить очень тихо, наклонившись к нему.
— Мне начальник поручил переговорить с тобой: «Яхонтову, говорит, довериться вполне можно, не подведет!» У нас, надо тебе знать, новое дело начинается. И такое это дело, что даже и вообразить себе трудно: важное, тонкое и… тайное, конечно. До того оно тайное, что я даже мух из комнаты выгоняю, когда им занимаюсь — боюсь, чтобы не подсмотрели! — усмехнулся он. Тебе вот первому рассказываю, а о нем, кроме начальника и меня, ни одна душа еще не знает. Штука в том, понимаешь ты, что это дело не туфта какая-нибудь паршивая, как все наши дела, а самый доподлинный заговор. Из заграницы идет. И шутка, понимаешь ты, в том, что во что бы то ни стало, а дело это надо в наших руках оставить, чтобы Москва его не перехватила. Мы его прощупали, мы его и вести должны. Так? А то ведь в Москве много таких субчиков, которые на готовенькое падки. Понимаешь?
— Понимаю! — уверенно подтвердил Яхонтов.
— Я тебе потом все расскажу, завтра, а сегодня ночью надо одну штуку провернуть. Штатское платье у тебя есть с собою?
— Есть.
— Так ты вот что сделай: переоденься, а потом я тебя приду и арестую: в одиночку спрячу. Пусть никто тут не знает, что ты на подсыпку пошел, а то еще предупредят чего доброго: никому не верю! А утром туда к тебе арестованного приведут, так надо, чтобы он тебя там уж застал, в камере. Можно, конечно, тебя и потом к нему подкинуть, но психологически другая картина будет: если тебя потом подкинуть, то у него недоверие может быть, а если он тебя уже в камере застанет, то он подсыпки не зачует. Я уж это все обдумал. Надо, чтобы комар носа не подточил!
— Это правильно: совсем другой подход! — согласился Яхонтов.
— Люди там тертые, ловкачи, их на кривой не очень-то объедешь. И в том твоя задача будет, товарищ Яхонтов, чтобы этому гусю без мыла в душу влезть. Ты скажешь — трудно. Согласен. Но я тебе помогу. Ты выбери минутку, отвернись от него, вздохни глубоко да и скажи, словно сам себе говоришь: «Папироска моя не курится, не знаю, с кем буду амуриться!» Будешь помнить? Запиши!
— Это что же? Пароль?
— Само собою! Вот увидишь, клюнет. И сразу же он тебе ответит: «А моя папироска курится, и любит меня курица». Но только, — совсем строго и даже угрожающе добавил Супрунов, — только, товарищ Яхонтов, ты действуй без ошибки, потому что за ошибку в таком деле сам полетишь к чертовой матери. Никому ни слова!
— Об этом не надо говорить, товарищ начальник.
— То-то же! И если я хоть душок этого дела замечу где-нибудь там, где ему быть не полагается, так я без расспросов буду знать: от тебя душок идет, ты проболтался. А тогда уж не взыщи: милости не будет! Тут и пересол на спине, и недосол на спине.
Яхонтов качнулся на стуле, хотел ответить как-нибудь особенно, сильно и даже торжественно, но не нашел ни слова и только посмотрел на Супрунова.
— Я в тебе не сомневаюсь! — подбодрил его тот. — Но и ты дураком не будь. Иди сейчас к себе, переоденься, а я тебя, по всей форме, приду и арестую: никто ничего не должен заподозрить. Ах, да! — вспомнил он. — Захвати с собой револьвер в карман, заряженный. И все время его с собой носи: тут такое может быть, такое, чего ты и не ожидаешь. Ну, иди!
Яхонтов ушел к себе. Он торопливо начал переодеваться в штатский костюм, которого он не любил, и вдруг неожиданная, жгучая мысль так сильно обожгла его, что у него даже потемнело в глазах и сразу стеснилось дыхание. «А вдруг… подвох? А вдруг — ловушка?»
Неизвестно, откуда взялась эта мысль и что ее подсказало. Она пришла, казалось бы, безо всякого основания, случайная и ничем не вызванная, но тем не менее она сразу же стала для Яхонтова несомненной и неоспоримой. Его лицо сразу запылало, и противный, мерзкий страх схватил его за сердце. Полуодетый и сразу обессиленный, он растерянно опустился на клеенчатый диван и стал бессмысленно смотреть перед собою. «Подвох или мне мерещится?» Ложь окутывала его все время, он видел ее всегда, но сейчас она словно бы собралась в одной точке и уплотнилась до того, что стала чуть ли не осязаемой и весомой.
«Да неужели же?» — чуть не вскрикнул он, каким-то шестым чувством улавливая связь между своим фиктивным арестом и делом Варискина. И тут же вспомнил, как он «покупал» Варискина басней о десятитысячниках.
Он заметался в тоске и в страхе, так как понял, что он попался и что выхода ему нет. «Уйти сейчас, что ли, и… и бежать?» Но он понимал, что бежать некуда, что бежать нельзя. «Конец? Да неужели же конец?» — холодел он. Он весь напрягся, чтобы найти выход и спасение, и этот выход открылся ему сам по себе. «А револьвер? Зачем Супрунов приказал взять револьвер?» Он не понимал, совсем не понимал, зачем нужен в цепи лжи этот револьвер, о котором Супрунов говорил так настойчиво, но, странным образом, револьвер сразу опрокинул и его мысли и их направление. Все подозрения о ловушке исчезли, как будто их и не было, потому что — «Зачем же револьвер, если здесь ловушка?» И иначе — «Если револьвер, так, значит, никакой ловушки нет!»
Представления шли не от анализа и не от логики, а только от чувств. Страх перед «попался» был так силен, что даже револьвер стал спасением, потому что спастись было нужно. Ложь, которая только что уплотнилась в почти существующий комок, перестала быть и губить, потому что «возьми с собой револьвер» стало большей реальностью, чем эта ложь. И если бы кто-нибудь сказал сейчас Яхонтову, что этот револьвер есть тоже ложь, он отшатнулся бы, потому что должна же быть правда хоть в чем-нибудь, хоть в револьвере.
Через час Супрунов взял с собой двух уполномоченных, предупредив их, чтобы они «не болтали», и прошел в кабинет Яхонтова. Тот (уже в штатском) сидел за столом и делал вид, будто занимается. Супрунов короткими шагами подошел к нему, негромко, но сильно ударил кулаком по столу и сказал с холодной властностью:
— Довольно дурака валять! Все уж известно! Понятно?
Яхонтов поднялся. Он знал, что Супрунов играет комедию, о которой они оба только что условились, но все же он побледнел: не мысль о ловушке пришла к нему, но ему был страшен отблеск ареста в ложном зеркале фикции, потому что даже этот отблеск говорил ему об уничтожающей силе. Игра в уничтожение была так же страшна, как и само уничтожение, потому что грань между фикцией и действительностью была для него стерта, как была она стерта для многих. Он растерянно глянул на Супрунова, нервно перевел дыхание и пошевелил языком в мигом пересохшем рте.
— Иди с ними! — приказал ему Супрунов.
Уполномоченные смотрели на Яхонтова странным взглядом: ни один из них даже мысли не имел в голове, что перед ним разыгрывается игра, а поэтому и думал, что «Яхонтов влип». И во взгляде каждого уполномоченного было то, что вызывалось в нем выработанным рефлексом исполнительности: во взгляде было и довольство охотника, поймавшего зверя, и недоумение («Да неужто Яхонтов враг?»), и чуть ли не явственный страх перед тем, что ведь завтра может дойти и до него очередь, без предупреждения и без причины. Но все это прикрывалось в глазах холодностью, бесстрастием и служебной готовностью.
Супрунов сам проводил Яхонтова до одиночки, а когда дверь за ним закрылась, он повернулся к уполномоченным:
— Никому ни слова! Понятно? Завтра будет объявлено в приказе, а до тех пор — ни звука!
— Есть, товарищ начальник!
После того Супрунов стал дожидаться, пока Любкин вернется от Елены Дмитриевны. И когда Любкин вернулся, Супрунов вошел к нему с каким-то особенным лицом: ласковым, немного снисходительным, немного таинственным и безусловно обещающим. Примерно так улыбается нянька ребенку, которому она приготовила вкусный сюрприз.