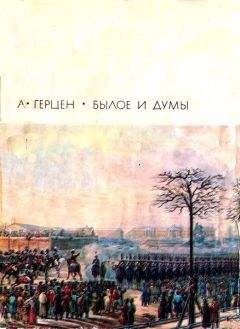Александр Герцен - Былое и думы. (Автобиографическое сочинение)
Я всегда и во всем боялся «пуще всех печалей» мезальянсов, всегда их допускал долею по гуманности, долею по небрежности и всегда страдал от них.
Предвидеть бело немудрено, что новые связи долго не продержатся, что рано или поздно они разорвутся и что этот разрыв, взяв в расчет шероховатый характер новых приятелей, — не обойдется без дурных последствий.
Вопрос, на котором покачнулись шаткие отношения, был именно тот старый вопрос, на котором обыкновенно разрываются знакомства, сшитые гнилыми нитками. — Я говорю о деньгах. Не зная вовсе ни моих средств, ни моих жертв, они делали на меня требования, которые удовлетворять я не считал справедливым. Если я мог через все невзгоды, без малейшей поддержки, провести лет пятнадцать русскую пропаганду, то я мог это сделать, налагая меру и границу на другие траты. Новые знакомые находили, что все, делаемое мною, мало, и с негодованием смотрели на человека, прикидывающегося социалистом, и не раздающего своего достояния на дуван[1206] людям, не работающим, яо желающим деньги. Очевидно, они стояли еще на непрактической точке зрения христианской милостыни и добровольной нищеты, принимая ее за практический социализм.
Опыты собрания «Общего фонда» не дали важных результатов. Русские не любят давать денег на общее дело, если при нем нет сооружения церкви, обеда, попойки и высшего одобряющего начальства.
В самый разгар эмигрантского безденежья разнесся слух, что у меня есть какая-то сумма денег, врученная мне для пропаганды. (320)
Молодым людям казалось справедливым ее у меня отобрать.
Для того чтоб понять это, следует рассказать об одном странном случае, бывшем в 1858 году. Одним утром я получил записку, очень короткую, от какого-то незнакомого русского; он писал мне, что имеет «необходимость меня видеть», и просил назначить время. Я в это время шел в Лондон, а потому вместо всякого ответа зашел сам в Саблоньер-отель и спросил его. Он был дома. Молодой человек с видом кадета, застенчивый, очень невеселый и с особой наружностью, довольно топорно отделанной, седьмых-восьмых сыновей степных помещиков. Очень неразговорчивый, он почти все мол- чал; видно было, что у него что-то на душе, но он не дошел до возможности высказать, что.
Я ушел, пригласивши его дни через два-три обедать. Прежде этого я его встретил на улице.
— Можно с вами идти? — спросил он.
— Конечно, — не мне с вами опасно, а вам со мной. Но Лондон велик…
— Я не боюсь, — и тут вдруг, закусивши удила, он быстро проговорил: — я никогда не возвращусь в Россию… нет, нет, я решительно не возвращусь в Россию…
— Помилуйте, вы так молоды?
— Я Россию люблю, очень люблю; но там люди… там мне не житье, я хочу завести колонию на совершенно социальных основаниях; это все я обдумал и теперь еду прямо туда.
— То есть куда?
— На Маркизовы острова.,
Я смотрел на него с немым удивлением.
— Да… да. Это — дело решенное. Я плыву с первым пароходом и потому очень рад, что вас встретил сегодня. Могу я вам сделать нескромный вопрос?
— Сколько хотите.
— Имеете вы выгоду от ваших публикаций?
— Какая же выгода. Хорошо, что теперь печать окупается.
— Ну, а если не будет окупаться?
— Буду приплачивать.
— Стало, в вашу пропаганду не входят никакие торговые цели? Я расхохотался. (321)
— Ну, да как же вы будете одни приплачивать? А пропаганда ваша необходима… вы меня простите, я не из любопытства спрашиваю — у меня была мысль, оставляя Россию навсегда, сделать что-нибудь полезное для нее, я и решился… да только прежде хотел знать от вас самих насчет дел… да-с, так я и решился оставить у вас немного денег. На случай, если вашей типографии нужно или для русской пропаганды вообще, так вы бы и распорядились.
Мне опять пришлось посмотреть на него с удивлением.
— Ни типография, ни пропаганда, ни я, в деньгах, мы не нуждаемся — напротив, дело идет в гору — зачем же я возьму ваши деньги — но, отказываясь от них, позвольте мне от души поблагодарить за доброе намеренье.
— Нет-с, это — дело решенное., У меня пятьдесят тысяч франков; тридцать я беру с собой на острова, двадцать отдаю вам на пропаганду.
— Куда же я их дену?
— Ну, не будет нужно, вы отдадите мне, если я возвращусь; а не возвращусь лет десять или умру, употребите их на усиление вашей пропаганды. Только, — добавил он подумавши, — делайте, что хотите, но… но не отдавайте ничего моим наследникам. Вы завтра утром свободны?
— Пожалуй.
— Сводите меня, сделайте одолжение, в банк и к Ротшильду; я ничего не знаю и говорить не умею по-английски и по-французски очень плохо. Я хочу скорее отделаться от двадцати тысяч и ехать.
— Извольте, я деньги принимаю, но вот на каких основаниях: я вам дам расписку…
— Никакой расписки мне не нужно…
— Да, но мне нужно дать и без этого ваших денег не возьму. Слушайте же. Во-первых, в расписке будет сказано, что деньги ваши вверяются не мне одному, а мне и Огареву. Во-вторых, так как вы, может, соскучитесь на Маркизских островах и у вас явится тоска по родине (он покачал головой)… почем знаешь, чего не знаешь, — то писать о цели, с которой вы даете капитал, не следует, а мы скажем, что… деньги эти отдаются в полное распоряжение мое и Огарева — буде же мы (322) иного распоряжения не сделаем, то купим для вас на всю сумму каких-нибудь бумаг, гарантированных английским правительством, в пять процентов или около. Затем даю вам слово, что без явной крайности для пропаганды мы денег ваших не тронем; вы на них можете считать во всех случаях, кроме банкрутства в Англии.
— Коли хотите непременно делать столько затруднений, делайте их… а завтра едем за деньгами.
Следующий день был необыкновенно смешон и суетлив. Началось с банка и Ротшильда — деньги выдали ассигнациями. Б<ахметев> возымел сначала благое намерение разменять их на испанское золото или серебро. Конторщики Рот<шильда> смотрели на него с изумлением, но когда вдруг, как спросонья, он сказал совершенно ломанным франко-русским языком: «Ну, так летр креди иль Маркиз»,[1207] тогда Кестнер, директор бюро, обернул на меня испуганный и тоскливый взгляд, который лучше слов говорил: «Он не опасен ли?» К тому же никто еще никогда в доме у Ротшильда не требовал кредитива на Маркизские острова.
Решились тридцать тысяч взять золотом и ехать домой; по дороге заехали в кафе, — я написал расписку;
Б<ахметев>, с своей стороны, написал мне, что отдает в полное распоряжение мое и Огар<ева> восемьсот фунтов. Потом он ушел зачем-то домой, а я отправился его ждать в книжную лавку; через четверть часа он пришел бледный, как полотно, и объявил, что у него из 30000 недостает 250 фр., то есть 10 liv. Он был совершенно сконфужен. Как потеря 250 фр. могла так перевернуть человека, отдававшего без всякой серьезной гарантии 20000, — опять психологическая загадка натуры человеческой.
— Нет ли лишней бумажки у вас?
— Со мной денег нет, я отдал Rothsch<ildy>, и вот расписка: ровно 800 фунтов получено.
Б<ахметев>, разменявший без всякой нужды на фунты свои ассигнации, рассыпал на конторке. Тх<оржевского> 30000 — считал, пересчитывал, — нету 10 фунтов, да и только. Видя его отчаянье, я сказал Тхор-<Окевскому>: (323)
— Я как-нибудь на себя возьму эти проклятые десять фунтов, а то он же сделал доброе дело,»да он же и наказан.
— Горевать и толковать тут не поможет, — прибавил я ему: — я предлагаю ехать сейчас к Ротшильду.
Мы поехали. Было уже позже четырех, и касса заперта. Я взошел с сконфуженным Б<ахметевым>. Кестнер посмотрел на него и, улыбаясь, взял со стола десятифунтовую ассигнацию и подал ее мне.
— Это каким образом?
— Ваш друг, меняя деньги, дал вместо двух пятифунтовых две десятифунтовые ассигнации, а я сначала не заметил.
Б<ахметев> смотрел, смотрел и прибавил:
— Как глупо — одного цвета и десять фунтов и пять фунтов; кто же догадается? Видите, как хорошо, что я разменял деньги на золото.
Успокоившись, он поехал ко мне обедать — а на другой день я обещался прийти к нему проститься. Он был совсем готов. Маленький кадетский или студентский, вытертый, распертый чемоданчик, шинель, перевязанная ремнем, — и… и тридцать тысяч франков золотом, завязанные в толстом фуляре так, как завязывают фунт крыжовнику или орехов.
Так ехал этот человек в Маркизские острова.
— Помилуйте, — говорил я ему, — да вас убьют и ограбят прежде, чем вы отчалите от берега. Положите лучше в чемоданчик деньги.
— Он полон.
— Я вам сак достану.
— Ни под каким видом.
Так и уехал. Я первые дни думал, чего доброго его укокошат — а на меня падет подозрение, что подослал его убить.
С тех пор об нем не было ни слуху, ни духу. Деньги его я положил в фонды с твердым намерением не касаться до них без крайней нужды типографии или пропаганды.