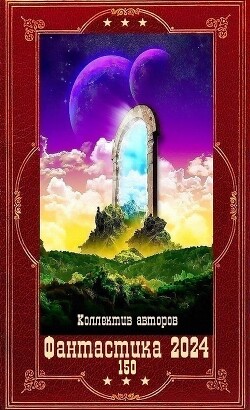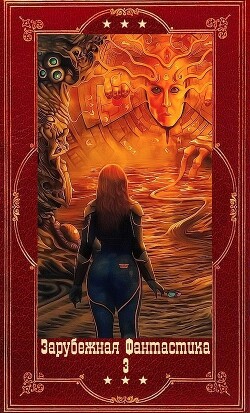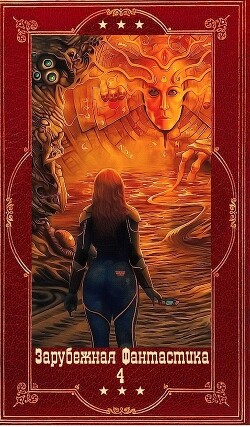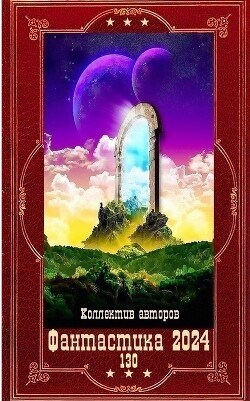Угол покоя - Стегнер Уоллес
У меня нет доказательств, но думаю, что предложение написать этот очерк завело бабушку, стимулировало. Ей очень важно было знать, что он удался. Это продемонстрировало бы, что ее карьера не усохла из‑за брака, а наоборот, расширилась. Ей хотелось расти, как, по ее представлениям, росли Томас и Огаста и как, она была уверена, рос на свой лад Оливер благодаря работе на руднике. Но от мысли, что она появится на соседней странице с Кейблом, Нейдалом [64] или еще кем‑нибудь из авторов “Скрибнера”, она холодела: вдруг ее очерк на поверку окажется неудачным, слабым?
Ей необходимо было знать. И за два вечера она написала еще одну маленькую вещицу о фиесте в День независимости Мексики в сентябре с двумя героинями в лице томных и красивых сестер мистера Эрнандеса. И отправила с пылу с жару в “Атлантик” мистеру Хауэллсу – судье менее пристрастному, чем Томас. Теперь она, получается, жила в тройном ожидании.
Мягкий весенний день, ближе к вечеру, зелень холмов такая нежная, что ей захотелось с них скатиться, как они с Бесси скатывались в детстве с выпасного холма в Милтоне. Вместо этого она переместилась со стула на той стороне веранды, откуда видна долина, на скамью поближе к дороге. От гамака отказалась не одну неделю назад, ей с него было бы не встать без посторонней помощи. Кухонные звуки от Лиззи и стук, который, вероятно, исходил от Джорджи по прозвищу Чума, играющего с дровами, могли быть звуками из маминой кухни. Запах сырости и плесени из‑под веранды был таким знакомым, что казалось, будто ее родные тут, за ближайшим холмом, в десяти минутах ходьбы. Впереди, на фиолетовой от люпина седловине, паслись два белых мула, безмятежные, как два белых облачка на летнем небе.
Пес Чужак выбрался из‑под веранды и отправился по дороге. Это значило, что возвращается Оливер. Через минуту он появился – вельветовые штаны, синяя рубашка, до того похож на фермера, возвращающегося с полей, что мог сойти за ее отца или за Джона Гранта. Он потрепал Чужака за ушами, и пес запрыгал вокруг него, как игривая пахотная кобылка. В кармане рубашки у Оливера она увидела письмо. Лоб и нос у него были красные от воскресной работы во дворе. Она сидела в тихом, спокойном ожидании. Когда он взошел на веранду, подняла для поцелуя улыбающееся лицо.
– О, ты так красиво шагал, – сказала она, – что я с ненавистью подумала, как ты мучился в этом мрачном старом подземелье.
– В полдень я поднялся наружу и неплохо проехался на муле до шахты Гуадалупе.
– Хорошо, я рада. А зачем?
– Помнишь, Кендалл увидел на Сьерра-Неваде подъемник и решил поставить такой в шахте Санта-Исабель, а мне он не понравился?
– Нет, не припоминаю.
– Помнишь, помнишь. Кендалл был недоволен, когда я в нем усомнился. Я тебе говорил.
– Если говорил, то я не усвоила. Я не очень‑то способна такое воспринимать.
– Я думаю, вполне способна. Ладно, неважно. Я знал, тут он работать не будет, потому что… словом, не будет. А он считал, что будет. Ну, я ему доказал. Мы с инженером Смитом его перепроектировали, и, когда Смит в последний раз тут был, я показал Кендаллу. Теперь они хотят его испытать в Гуадалупе, и, если он там будет работать, а он будет, то его поставят в Санта-Исабель.
Для него это была целая речь. Она поняла по этому потоку слов, как много для него значит происходящее. Во всем, за что брался, он добивался успеха. Она видела, как он растет, подобно свободе у Теннисона, “от прецедента к прецеденту” [65], и, гордясь им и желая, чтобы его ценность признавали работодатели, спросила:
– А тебе ничего за это не причитается? Запатентовать ты не можешь?
Он засмеялся.
– И это я от квакерши слышу? Мое время принадлежит компании.
– Даже воскресенья? Мистер Смит с тобой ни за что бы не согласился.
– Он – может быть, но Кендалл думает именно так. Он еще кое‑что сегодня сказал. Хоть он и не в восторге от того, что я доказал его неправоту, он сообщил, что прибавляет мне триста долларов.
– Которые ты честно заработал – и не триста, а намного больше. Ты такое дитя, что все могут на тебе наживаться. Ты, вероятно, сэкономил им тысячи. Когда ты дашь мне мое письмо?
Он потрогал свой карман.
– Письмо? Оно не твое.
– О, фу. От кого?
– От моей матери.
– Можно мне прочесть?
– Оно личное.
– Ну какой же ты странный, – разочарованно сказала она. И увидела по лицу, что он хитрит и скрытничает. – Что ты задумал?
– Неужели нельзя человеку получать личные письма от своей матери? Ты же получаешь от своего старого дружка Дикки Дрейка.
– Ну что ты, Оливер, душа моя, ты можешь их прочесть, если захочешь! Между прочим, он нелепейшим образом влюбился в еврейскую поэтессу Эмму Лазарус.
– Удачно влюбился, она его из мертвых воскресит, как Иисус Лазаря. Когда воскресит, я прочту его письма. О чем я действительно хочу с тобой поговорить, это о надежной помощи с нашим будущим ребенком.
– Да? – сказала она. – И кто это может быть? Знаешь, сколько миссис Кендалл платит своей неуклюжей девице? Ее китайцы и то лучше как слуги.
– Я не собираюсь нанимать тебе китайца.
– Охотно верю. Ты никого мне не будешь нанимать. Лиззи справится.
– Лиззи хватает дел: готовить, вести дом и за Чумой смотреть. Тебе нужен кто‑то для тебя и ребенка.
– Признайся мне немедленно, – сказала она. – Ты задумал какое‑то сумасбродство. Мы не можем выбросить то немногое, что скопили, на…
Непоколебимо спокойный, Оливер сидел на ступеньках и почесывал Чужака за ушами.
– Никакого сумасбродства. Я говорил, что не для того беру тебя к себе на Запад, чтобы поселить в лачуге, и, в общем, сдержал обещание, только за дорогу твою не сумел заплатить. Я не рассчитывал, что ты родишь в этом поселке, но что есть, то есть. Самое меньшее, что мы теперь можем, – это обеспечить тебе уход и поддержку. Мама нашла женщину, которая готова приехать.
– Оливер…
– Погоди. Это не служанка, а леди. Мама за нее ручается. Что‑то случилось с ее мужем, или, может быть, не было никакого мужа. Она в Нью-Хейвене и, можно сказать, на мели. Согласна за жалованье служанки, и еще оплатить переезд. Если ты все не перечеркнешь.
– Оливер…
Она с трудом встала со скамьи. Он подал ей письмо от его матери.
– И мы можем это себе позволить, – сказал он. – Мы можем все, что тебе необходимо. Могли до того, как Кендалл поднял мне жалованье, и тем более можем сейчас.
Она почувствовала подступающие слезы, самой своей физической зависимостью избавленная от сомнений; наклонилась над ним, сидящим, обвила его сзади руками, он неуклюже поднялся, повернулся к ней.
– Оливер Уорд, душа моя, избаловал ты меня все‑таки! – смущенно, потерянно прокричала она в потную шерсть его рубашки.
Ее родичи и Огаста, с тревогой ждавшие вестей о разрешении Сюзан от бремени, которое, вопреки ее письмам, они, похоже, рисовали себе происходящим на полу землянки, беспокоились зря. По меркам 1877 года рождение моего отца было неплохо организовано, должный присмотр удалось обеспечить.
Мэриан Праус приехала 22 апреля, и в тот же день выяснилось, что это приятная, мягкая, чуткая и всегда готовая помочь молодая женщина. А днем позже пришло письмо от Томаса Хадсона: он с радостью готов был купить ее нью-альмаденский очерк с любыми иллюстрациями, какие она предоставит. А еще через три дня пришел ответ от Уильяма Д. Хауэллса, он согласился взять материал о мексиканской фиесте и попросил две иллюстрации на любые темы по ее выбору, по возможности поскорее. Он написал, что помнит их приятную встречу несколько лет назад, и выразил надежду, что плоды ее пера и карандаша еще много раз появятся на страницах “Атлантика”. Вот оно, это письмо, тут на стенке, в рамочке: начало бабушкиной литературной карьеры.
Посреди всеобщих оваций Сюзан села и написала смущенную, извиняющуюся записку Томасу Хадсону, где неуклюже объясняла, как вышло, что ее первая литературная публикация с ее первыми рисунками на нью-альмаденские темы, возможно, будет не в “Скрибнере”, а в “Атлантике”. Она искала ободрения, а получился конфуз. Но по крайней мере она уверилась теперь, что если он и Огаста окажут некоторую помощь, то за публикацию в “Скрибнере” никому из них не будет стыдно.