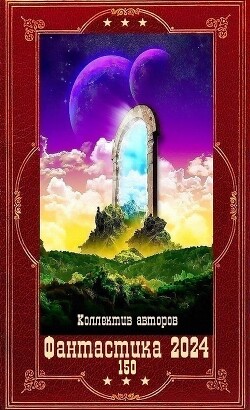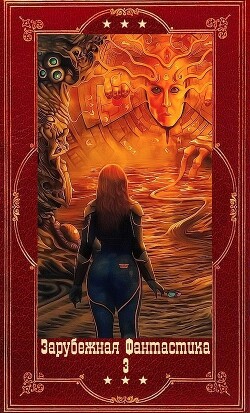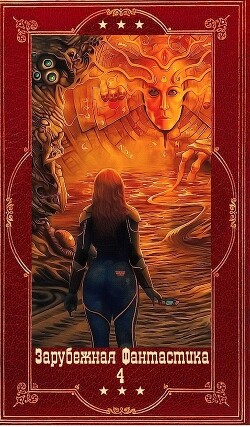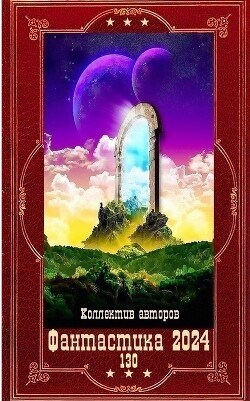Угол покоя - Стегнер Уоллес
Для моей бабушки теперь настало блаженное время. Многое этому способствовало, не в последнюю очередь – пресловутый двойной пульс. Она прислушивалась к нему, плывя по тихим околоплодным водам. Но было и другое.
Начался дождливый сезон и вновь подарил ей время и перемены. Дни получили разнообразие и бывали волнующими, солнце, светившее до того без устали месяцами, теперь иной раз не показывалось неделю, свирепые ливни охлестывали дом, на веранду летели ветки и листва, гора пропадала, появлялась и опять пропадала в бурной мешанине туч, холмы под внезапным ударом новоявленного солнца волшебно, свежо и зелено вспыхивали. “Долгая сухая жаркая зима”, о которой говорил ей Оливер, осталась позади. На тропы легла пыль, запахи перепревших летних отбросов, которые раньше приносило к ним из поселков, сменил чистый дровяной дым. В лесу и вдоль троп встречалось чудесное: нежданные цветы, венерин волос. Лесные запахи были уже не пыльными и пряными, а влажными и насыщенными, как дóма, как в лесу у Длинного пруда.
В непогоду ее дом был убежищем, каким, она считала, и должен быть дом. В такие дни зрение не позволяло Оливеру работать в его темном маленьком служебном кабинете после половины пятого. Сюзан сидела уже не на веранде, беззащитной перед громоздящейся горой, а внутри, поближе к печке, в маленькой жилой комнате, обшитой секвойей, дожидаясь в дремотной безопасности звука задвижки на калитке и его шагов на веранде. Иногда у них был целый час до ужина, чтобы бездельничать, читать вслух “Скрибнер”, Тургенева или “Даниэля Деронда” [57], приводить в порядок то и это, беседовать.
В январе Огаста благополучно родила, и после этого из ее писем ушло уныние, живой ребенок начал замещать мертвого. Избавившись от тревоги за подругу, Сюзан стала лучше узнавать мужа. Она открывала в нем неожиданное. Он мог смастерить что угодно, он что хочешь мог починить, от сломанной рукоятки разделочного ножа до просевших столбов под верандой. Не вдаваясь в обсуждение причин, он соорудил для свободной комнаты кровать, скамью и комод, начал мастерить колыбель, которую можно будет подвесить к потолку веранды. Из мексиканского поселка принес шкуры койота и лесного кота, обработал их и сшил подстилку, чтобы лежала около их кровати и младенец, когда придет время, мог на ней ворочаться, ползать и играть.
Но Оливер был не только рукастым, каким и положено быть инженеру. Он обнаружил и совсем неожиданную тонкость вкуса. Его соображения об убранстве дома до того часто оказывались верными, что она изумлялась. Он мог, не придавая этому ни малейшего значения, даже сам немного смущаясь, составить прекрасный букет из диких цветов с небрежной сноровкой, посрамлявшей ее самые кропотливые ухищрения. Он водил тесную дружбу с растениями: все, что приносил из леса, росло так, будто только и ждало пересадки в их двор.
И даже с литературой было похоже. Она хотела поговорить с ним про “Даниэля Деронда”, о котором они с Огастой, читая роман одновременно, вели болтливую и, должен признаться, скучную переписку. Но Джордж Элиот ему по вкусу не пришлась. Он сказал, что она хочет быть и писательницей, и читательницей: не успела сотворить персонаж, как начинает на него реагировать и судить его. Тургенев – тот, напротив, держится вне своих историй, предоставляет тебе реагировать самому. После этого разговора Сюзан в очередном письме Огасте смиренно скорректировала свое суждение.
У них бывали гости – не часто, но не так уж и редко. Мистер Гамильтон Смит, один из партнеров Конрада Прагера и инженер-консультант рудника, принял приглашение поужинать, чем заставил ее в панике ринуться в мексиканский поселок за говядиной, ибо мистер Смит был из тех самых великих завсегдатаев сан-францисских ресторанов. День был “богатый” – день жалованья, – и весь поселок пьянствовал. Помощник мясника, которого она сумела выманить из Hosteria de los Mineros [58], отрезал ей кусок говядины, пространно заверяя ее, что это праздничный кусок, а берет он как за обычный. Оливер, узнав, куда она ходила одна, был расстроен, но ужин удался, а после ужина мистер Смит предложил Оливеру показать ему свои записи, карты, чертежи насосных станций, все, чем он занимался, и они два часа провели над всем этим – “почти как если бы ты показывала то, что сделала за год, мистеру Ла Фаржу, но только более доброму и великодушному”. Будь управляющим рудника не мистер Кендалл, а мистер Смит, они бы чаще наведывались в асьенду.
В конце февраля, когда склоны холмов запестрели от люпина, маков и голубоглазки, на несколько дней приехала Мэри Прагер. Цитирую из бабушкиных воспоминаний: “Она сочла место идеальным. Долина, меняющаяся час от часу, облака вдоль основания гор, подобные боевым порядкам, которые формируются, бросаются в атаку, рвутся, наталкиваясь на препятствия, рассекаются на неистово летящие клочья и ленты; горные вершины, которые закат окрашивает в неописуемые цвета, и ближние холмы, переливчатые, словно разрезной бархат. Она расхаживала по веранде, улыбаясь сама себе; она прикладывала нежные руки к моему домашнему хозяйству. Я думаю, наш простой образ жизни дал ей отдых после светской безупречности, которой она поставила себе целью достичь, выйдя замуж за человека, чья жизнь ее требовала; ведь она тоже была дочерью фермера, и, полагаю, ей, когда она устраивала свои изысканные маленькие ужины, приходилось спрашивать мужа, какое вино подавать к какому блюду… Они с Оливером подшучивали друг над другом, как водилось в семье Уордов; а когда она увидела невестку-рисовальщицу за усердной работой – в более привычном для себя состоянии, чем в городе, где невестка под воздействием вечернего платья и вечернего общества была избыточно светской особой, – те опасения, что могли у нее быть, мне думается, рассеялись. Она поняла, что прав был ее отец, когда сказал, прочтя наш квакерский брачный договор, что «дело прочное»”.
Перед отъездом Мэри Прагер держала их за руки и высказала надежду, что они будут избавлены от бродячей жизни, свойственной профессии Оливера. Почему бы им не обосноваться в Нью-Альмадене навсегда? Когда‑нибудь он, возможно, станет тут управляющим; у него прекрасные возможности добиться успеха, не превращая жену в странницу.
Что же касается молодых людей, квартировавших у мамаши Фолл, которых иногда приносило на веранду Уордов в прохладные весенние вечера, – они считали, что Оливеру Уорду привалила редкая удача. Все до одного были влюблены в Сюзан, хоть беременную, хоть нет. Один из них, студент Калифорнийского университета с тоннами непереваренной информации в башке и добрым непрошеным советом любому собеседнику, как‑то раз вечером, спотыкаясь, сошел с веранды и заявил Оливеру, что миссис Уорд больше ангел, чем женщина. “Что позабавило нас обоих, – пишет Сюзан, – но одну из двоих заставило почувствовать себя унылой и старой”.
Это, конечно же, притворство. Ей было тридцать. Оливеру, которого она иногда называла “сынок” и которым порой командовала, – двадцать восемь. Они были счастливей некуда. Хотя в Нью-Йорк по‑прежнему потоком шли еженедельные письма, тон этих писем теперь то безмятежный, то взволнованный, то веселый – никакой безысходности, никакой тоски по дому. А время от времени Восток протягивал ей руку и давал знать, как сильно она изменилась всего за полгода с небольшим.
Приехал Хауи Дрю, паренек из Милтона, возжелавший найти на Западе свою удачу; он провел в Нью-Альмадене уикенд, исследуя здешние возможности, и Оливер посоветовал ему двигаться дальше. Сюзан взялась быть для Хауи вожатой, потому что Оливер был занят, и утром они отправились по новой дороге, которую строили китайские кули, к штольне шахты Санта-Исабель. Шли, разговаривали о родных местах, а она глядела мимо его рыжей головы вбок, на безымянные местные цветы, смотревшие на них с кручи. Проходили мимо черных кострищ, где китайцы с косичками готовили себе в полдень чай. От надшахтной постройки доносился звон сигнального колокола, с помоста перед штольней Дэя с грохотом вывалила груз вагонетка. И среди всего этого – Хауи Дрю, который жил в Милтоне рядом, чуть дальше по дороге, сын паромщика, за ним она в пятнадцать лет приглядывала, когда его мать отлучалась. И рядом с ним она сама, уже не Сюзан Берлинг, а миссис Оливер Уорд, бочкообразная из‑за беременности, она вообще никуда бы не шла, если бы не Хауи, она только потому с ним на людях, что он старый друг, почти родня. Знакомое и незнакомое поплыло и слилось воедино, смешалось в нечто странное, как во сне: лицо Хауи Дрю из ее девических лет на фоне горного склона из ее настоящего. Как ветром потную кожу, ее обдало сбивающее с толку чувство: та, кого Хауи принимал как должное, с кем разговаривал, кого отражал, будто зеркало, не была прежней, той, чья подпись стояла под всеми ее былыми рисунками, той, кого она знала. Какова же ее теперешняя индивидуальность? Она понятия не имела.