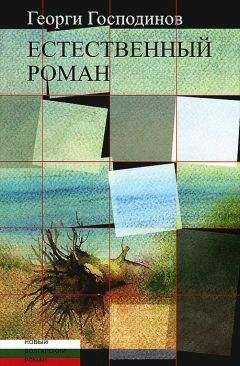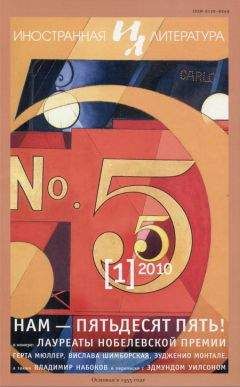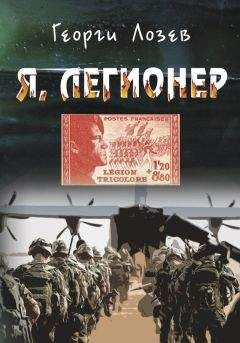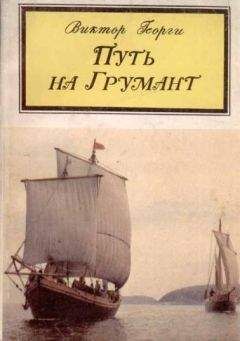Времеубежище - Господинов Георги
— Послушай… — пытаюсь я его прервать.
— Подожди-ка, — говорит вдруг К. — Разве ты не был среди тех, кто хотел создать музей госбезопасности? Именно здесь, в подземелье… И где ваш музей?
— Нашу идею одобрили, мы на пятидесяти страницах подробно изложили, что и как надо сделать. Появились восторженные статьи в газетах… И всё. Сначала рассказывали, будто негде. Вот был бы мавзолей, сделали бы там, но теперь бла-бла-бла… Вдруг в Софии не оказалось места. И тогда мы вспомнили о подземелье на Московской. Ты знаешь, какое там эхо? Сохранилась какая-то акустическая память, ведь столько людей прошло через это подземелье, столько кричало. И вроде уже все было на мази, но вдруг застопорилось, а потом все ушли в сторону, вроде как сейчас не время, не надо разделять народ… Одним словом, ничего. Нельзя сделать музей чего-то, что еще живо.
Некоторое время мы молчим. Столики постепенно пустеют, становится прохладно. Потом К. продолжает. Говорит о том, что людям надоели партии, глобализация и политкорректность…
— И чем им не нравится глобализация? — спрашиваю я. — И о какой политкорректности ты говоришь здесь, где тебя запросто могут обматерить, это им как поздороваться.
— Видишь ли, — К. не любит, чтобы его прерывали, — несправедливость во всем, и люди это чувствуют. А мы отошли в сторону, и никто не хочет рисковать и говорить о наболевшем.
— Именно что рисковать, — отвечаю я. — Точнее и не скажешь. Но ты говоришь как человек, который готов помочь слабому. Но ведь слабые — мы с тобой, пойми же, наконец. Все переменилось. И бритоголовым плевать на то, что какие-то там очкарики снизошли до беседы с ними.
— Ты не живешь здесь постоянно и не можешь так говорить, — обрывает меня К.
Кажется, назревает скандал. Совсем как в старые добрые времена.
— Подожди, подожди… А если нас не хотят слушать, тогда как?.. Или ты имеешь в виду либеральный дискурс… Но ведь они просто рассмеются тебе в лицо, сорвут с тебя очки, раздавят их и отправят одного по темным улицам… Это в лучшем случае. Или будут молотить тебя дискурсом по голове, пока ты ищешь на земле очки. — Я понимаю, что утрирую, может даже перебарщиваю.
К. умолкает, невольно поднеся руку к лицу, словно желая проверить, на месте ли очки. Таким ом меня не знает, но во мне скопилось много молчания плюс несколько рюмок ракии.
— Что дает национальное государство? Уверенность в том, что тебе известно, кто ты, что у тебя есть место среди других, тебе подобных. Они говорят на том же языке и помнят то же, что и ты: от хана Аспаруха до вкуса печенья «Золотая осень». И в то же время у вас общая деменция по отношению к другим вещам. Я уже не помню, кто это сказал, что нация — это группа людей, которые договорились помнить и забывать одни и те же вещи.
— Ренан сказал, еще в девятнадцатом веке, я читал вам лекцию о нем, — перебивает меня К.
— Ладно, не спорю. Ну а что, если Европу разделить на разные периоды? Так или иначе, национализм — явление территориальное, территория — это святое. Что произойдет, если выдернуть из-под ног этот коврик? Общей территории не будет, ее место займет общее время.
— Вопрос в том, готовы ли мы сделать выбор, — бурчит К. — Впрочем, а что вообще ты думаешь по поводу этого референдума? — Он неожиданно смотрит на меня поверх очков, смотрит по-особенному, как умеет только он.
Вечерний ветер разворачивает салфетки. Стол уставлен бокалами и грязными тарелками. И на фоне всего этого беспорядка неизвестно почему в голове вдруг возникает воспоминание о том далеком вечере в конце восьмидесятых, семинаре на море, словно из другой жизни (К. тогда тоже сидел за столом). И маленькая фарфоровая тарелочка, проплывшая у нас над головами, с горкой сметаны для Гаустина.
— Не знаю, — говорю я. — Уже не знаю.
— Я тоже ничего не понимаю, — признается К.
Я вдруг осознаю, что никогда не слышал от него этих слов. Явно не все так гладко, если самый категоричный, не допускающий возражений человек из всех, кого я знаю, растерянно качает головой.
Где-то прямо у нас за спиной слышатся выстрелы, и в ту же секунду как раз у нас над головами расцветают бело-зелено-красные узоры.
— Репетируют завтрашнее, — говорит К. — Пошли отсюда.
Мой старинный друг, младший ассистент, а ныне профессор Кафка. Чувствую, что мы близки как никогда. Такую близость обычно ощущаешь с человеком, случайно оказавшимся рядом во время неожиданного бедствия.
Звезды над нами сияют по-кантиански холодно, нравственный закон где-то затерялся. Рабочие продолжают возводить мавзолей Георгия Димитрова из каких-то легких материалов, и завтра наверняка он будет готов. (Все-таки в 1947 году его построили из крепкого, непробиваемого цемента всего за шесть дней. В 1992-м понадобилось семь дней, чтобы его разрушить.)
Мы проходим мимо, и К. (не удержался!) кричит:
— Ребята, а кого внутрь положим?
Некоторые рабочие обернулись, грозно посмотрели на него, но промолчали. Мы уже прошли, когда кто-то из них громко сказал нам вслед:
— Смотри, чтобы это не был ты.
Демонстрация
10
На следующее утро я проснулся с головной болью Одена, которую тот испытывал первого сентября 1939 года. Было воскресенье, первое мая. Идеальный день. Для Движения за социализм это был День труда, а для «Молодцев» — начало Апрельского восстания 1876 года Два митинга двух самых значительных сил всего за неделю до референдума.
Я решил, что стоит принять участие в обоих митингах, причем посмотреть на них, что называется, изнутри, качестве сторонника и участника, чтобы понять и потом обо всем рассказать Гаустину. Мне не составило труда найти костюмы. Костюмы служили одновременно пропуском, паспортом, партийным билетом. Оба движения открыли собственные прилавки и продавали униформу со скидкой. Вообще производство униформы в стране было поставлено на широкую ногу и превратилось в очень прибыльный бизнес.
Портные всегда были привилегированным классом. Я даже помню, как во времена социализма, когда частный бизнес был запрещен, в подвальных помещениях только нашего района по вечерам светились окна нескольких портновских мастерских. Матери водили нас туда, чтобы снять мерку для костюма. Портной (лысый, словно с рождения, с остатками жидких волос на затылке, усатый, в круглых очочках и с нарукавниками, настоящий буржуазный тип) накидывал на меня ткань, чиркал по ней мелом два-три раза, а на второй и третьей примерке я видел, как ткань превращается в рукава и штанины, которые висели на моем тощем теле, соединенные булавками. Я ужасно боялся этих булавок. «Ты словно Иисус на Кресте, — смеялся мастер, делал шаг назад, прищурившись, осматривал меня и говорил: — Ну-ка выпрямься, не горбись, каким прекрасным хлопцем станешь!»
Вот так мы и росли, потихоньку входя во взрослую жизнь. Но у меня навсегда осталось недоверие к портным с их буржуазностью, набожностью и острыми булавками.
Я снова увлекся, простите, но прошлое изобилует темными улочками, подвальными помещениями, коридорами и мастерскими. А также новыми подробностями относительно вещей, которые раньше считались неважными, но потом мы начинали понимать, что именно в этом неважном гнездилась и высиживала яйца птица прошлого.
Вот так без труда и по хорошей цене я приобрел оба костюма. Сначала надел соцкостюм. Их митинг начинался на час раньше другого. Социализму всегда были милее ранние пташки. Революции, перевороты, убийства обычно происходят спозаранку, до восхода солнца. Мы тоже вставали рано, еще затемно, правда не ради революции, а в школу. Невыспавшиеся и кислые, завтракали, слушая по радио передачу «Болгария: дела и документы» и детскую песенку «Радостно часы стучат, просыпайтесь, дети». Долгие годы мне слышалось: «Радостночасыстучат…»
В полвосьмого подхожу к подземному переходу у бывшего Дома партии — сборному пункту демонстрантов. Костюм мышино-серого цвета с чуть заметными полосками и карманами с клапанами сидел на мне мешковато. Но зато я был в галстуке — красном, ниже пупа и расширенным книзу. В качестве подарка к костюму я получил настоящий носовой платок — матерчатый, с синим кантом, а также небольшую расческу, которую кладут во внутренний карман. Должен признаться, они продумали каждую деталь. Мне пришло в голову, что, если они победят, придется возрождать производство носовых платков и карманных расчесок. И вообще всей дребедени тех времен. И слов, вышедших из употребления. С возвращением предметов возвращается и язык. Туфли начищены до блеска, темно-зеленые (непонятно почему) носки, наверно, взяты с какого-то армейского склада. На всякий случай в руках я держал кепку.