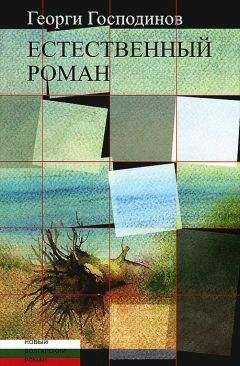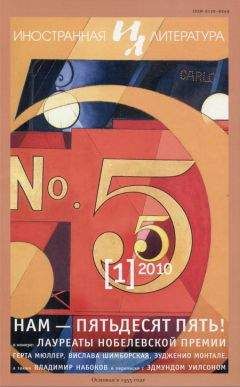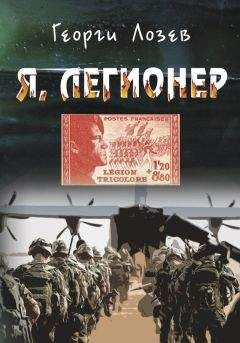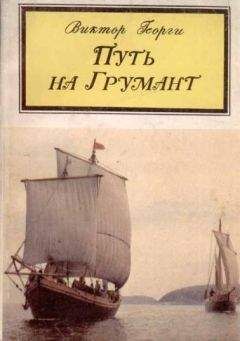Времеубежище - Господинов Георги
Я втягиваюсь в разговор, хотя пришел не за этим. А помнишь… А это… А вот то…
— Красиво, как в раю, цвели рекламы «Байер», «Филипс»… — На секунду К. задумывается, а я по-детски радуюсь, что он чего-то не знает.
— Говори, кто?
— Ранний Богомил Райнов, — радостно выкрикиваю я. — Прежде, чем превратился в сатрапа.
Если бы я участвовал в Референдуме о выборе прошлого, предпочел бы тридцатые из-за литературы того времени (несмотря на все то, что должно было случиться потом), хотя, возможно, задумался бы и о шестидесятых — о них у меня остались довольно подробные воспоминания.
Спрашиваю К., какое десятилетие выбрал бы он. К. не торопится с ответом, словно должен принять решение именно сейчас. Мы заказываем еще ракии, и как только официант уходит, К. медленно произносит:
— Колеблюсь между двадцатыми и пятидесятыми, хотя, по мнению социологических агентств, у них самый низкий рейтинг.
— Ну, это нормально, — говорю я. — На долю и тех, и других выпало слишком много кровавых событий.
Мне знаком труд К. о поэзии двадцатых. В это десятилетие отметилось несколько поистине гениальных поэтов. Лучший из них заплатил в буквальном смысле слова головой, пробитой шрапнелью на фронте, а потом собранной по кусочкам в Берлине. Спустя шесть лет поэта арестовали, и он бесследно исчез. В пятидесятых годах его тело было обнаружено в безымянной братской могиле. О том, кому оно принадлежало, определили по стеклянному глазу [11]. Хорошо известно, что родная полицейская власть во все эпохи питала слабость к писателям и поэтам и всегда стремилась уничтожить самых талантливых. Выжить могли только бездари. Я понимаю, почему К. выбрал двадцатые. Истории литературы хочет вернуться к своей теме.
— Но почему пятидесятые? — спрашиваю без обиняков. — Ведь там все мрачно, беспардонно, террор, лагеря… грубая эстетика, приверженцы Тодора Павлова…
— В пятидесятых мой отец оказался в Белене, — начал свой рассказ К. — Из лагеря он вышел совсем другим и никогда не рассказывал о том времени. В школе меня тут же записали в неблагонадежные. Когда говорили о врагах народа, учителя указывали на меня пальцем. Я служил идеальным примером того, насколько великодушна народная власть, которая разрешает таким, как я, жить и учиться вместе с остальными.
Однажды в дверь позвонили. Мне тогда исполнилось семь. Я посмотрел в глазок и увидел какого-то страшного бородатого грязного человека. Быстро повернул ключ еще на один оборот. Сердце чуть не выскочило из груди от страха. «Открой мне», — сказал человек за дверью, назвав меня по имени. «Незнакомым не открываю!» — выкрикнул я. «Неужели ты не узнал меня? Я твой отец», — он произнес эти слова тихо, словно боялся, что его услышат соседи. Я снова посмотрел в глазок, и мне показалось, что незнакомец плачет… «Нет, это не мой отец, — сказал я себе, — но раз он плачет, значит, не бандит». Но все равно не открыл. Мать была на работе. Она трудилась на фабрике и должна была вернуться через два-три часа. Мужчина так и стоял на лестничной площадке, цвет его одежды сливался с грязно-бежевым цветом стен. Я спросил, может ли он доказать, что он мой отец… Кажется, этот вопрос добил его… Он ответил, что на левой брови у меня шрам — он остался у меня после того, когда я однажды зимой поскользнулся и упал. Потом он предложил мне открыть шкаф. Там должна висеть шинель с металлическими пуговицами Он оставил ее, когда его увели на допрос. Сказал, что я постоянно просил его рассказать о фронте. Это все было правдой, но мой отец выглядел по-другому — он был молодым и красивым. Я так и выпалил это незнакомцу. Он уселся на ступеньки, и теперь я мог видеть только верх мятой фуражки.
Лишь теперь я осознал, насколько несправедливо и жестоко поступил. Тогда я снова сказал себе: «Нет, это не мой отец, но раз он плачет, значит, хороший. И если мать узнает, что я держал такого хорошего человека на ступеньках, мне здорово влетит». И открыл ему… Он вошел, сразу понял, что я ему не поверил, даже не попытался обнять меня — наверно, чтобы не напугать, и сказал, что пойдет в ванную. Он знал, куда идти. Потом я услышал звук льющейся воды. Слава богу, вернулась мать. Ей сказали, что выпустили заключенных по амнистии, и она отпросилась пораньше.
Мы немного помолчали, и К. продолжил:
— Поэтому я вернулся бы в пятидесятые, ради отца. Ведь год спустя его не стало. Мы даже толком не успели поговорить. Он ничего мне так и не рассказал.
Пока К. говорил, я смотрел на него.
Он как-то разом постарел, от его язвительности и отстраненности не осталось и следа, казалось, даже острый профиль как-то обмяк. К. вдруг превратился в своего отца, которого описывал… Рано или поздно мы все превращаемся в своих отцов.
Потом К. встрепенулся, осознав, что слишком расчувствовался, подозвал официанта, и мы заказали еще по одной порции шопского салата, этого удачного изобретения «Балкантуриста» конца шестидесятых.
— Да, хитро придумано, — замечаю я, чтобы сменить тему. — Белое, зеленое, красное… Способ напомнить иностранцам о цветах болгарского флага…
9
Вечер уже окутал землю. Всего тридцать лет назад справа от нас на Доме партии загорелась бы пятиконечная звезда. Напротив — здание Болгарского народного банка. Его строгий неоклассицизм тридцатых соседствует со сталинской архитектурой прежней гостиницы «Балкан» и здания Совета министров. Там, где когда-то стоял мавзолей, суетятся рабочие.
— Интересно, что они там делают? Неужели снова мавзолей возводят?
— В некотором смысле, — говорит К. — Завтра здесь намечается митинг приверженцев сил «Соца». Так что не удивлюсь, если мавзолей снова построят.
— Надеюсь, без тела внутри…
— Кто знает, — грустно усмехается К.
Я заказал «Тройку с гарниром» — из-за названия, которое пробудило во мне воспоминания о поездках к морю. Тогда отец гордо заказывал нам с братом общую порцию: три жареные колбаски-кебапчета с гарниром. Это было своеобразным признанием: тебя уже считают взрослым.
— Как когда-то, — заговорщицки склоняется ко мне официант, принеся заказ.
— Надеюсь, все же посвежее, — в тон отвечаю я.
К. с сарказмом смотрит на мою тарелку и спрашивает:
— По социализму соскучился?
— Пересолили немного, — отвечаю ему, откусывая от одной колбаски из грубого фарша. Как и когда-то, попадаются косточки, из-за которых можно лишиться пломб.
Святая троица традиционного гарнира: лютеница, вареная фасоль и пережаренный картофель.
К. заказывает какой-то кебап в винном соусе. Невкусно, но порция поражает своими размерами.
— Ты, наверно, уже понял, что выбор стоит между национализмом и социализмом, — говорит К. — Вот до чего мы дошли. Если ты меня спросишь, что из этого наименьшее зло, — честно, не знаю. К тому же национализм поднимал голову уже в последние годы социализма.
Постепенно он входит в свою любимую роль преподавателя, и стол превращается в кафедру. В какое-то время в ход идут и тарелки: моя «Тройка с гарниром» олицетворяет Движение за социализм, а его кебап в винном соусе становится «Молодцами». К. говорит о том, что в свое время мы не объяснили молодым суть коммунизма со всеми его ужасами и лагерями и поэтому целое поколение считает его стилем жизни.
— Прекрати, — прерываю его в какой-то момент, — а то так недалеко и до вечного «Мы в свое время так и так, а эти сейчас…». Молодежь по всему миру бунтует против стариков, а здесь старики пытаются бить молодых. Совсем как Тарас Бульба: «Я тебя породил, я тебя и убью…»
— Может быть, и так, — соглашается он. — Мы ничего не смогли сделать, ничегошеньки… Именно здесь, в доме номер пять по Московской улице, где мы сейчас сидим, находилось здание органов госбезопасности. Внизу, под нами, в подвале со стороны улицы Малко Тырново, располагались пыточные. Там сначала били по-страшному, обрабатывали, так сказать, щуплых ребят, а потом приказывали: давай, снимай штаны, не снимая обувь. Если не получается, значит, брюки уже, чем полагается. Раз так, отправляйся на Московскую за справкой. Били по почкам, чтобы не оставалось следов. Если пронесет, считай, повезло. «Чем вам мешают мои штанины, уроды? Свиньи, что такого, что брюки заужены, что плащ у меня желтый, как лимон, а пальто с деревянными пуговицами, ублюдки?..» — К. уже почти кричит в гневе. Люди за соседними столиками начинают оборачиваться в нашу сторону.