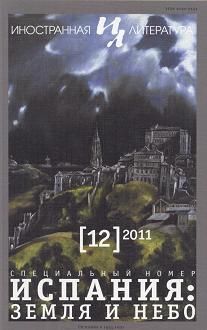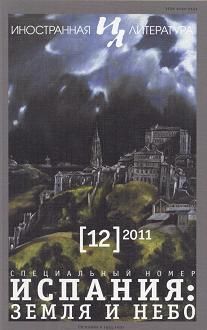Зима в Лиссабоне - Молина Антонио Муньос
— Я всегда тебе завидовал, — сказал он изменившимся тоном, словно до этой минуты только притворялся пьяным. — Просто умирал от зависти, когда ты играл. Ты заканчивал выступление, мы аплодировали тебе, и ты со стаканом в руке подходил к нашему столику, с улыбкой и таким презрительным, никого не замечающим выражением на лице.
— Это был страх. Я боялся всего, боялся играть, боялся даже смотреть на людей. Мне было страшно, что надо мной будут смеяться.
— …Я завидовал тому, как на тебя смотрят женщины. — Малькольм продолжал говорить, не слыша его. — А тебе было плевать, ты их не замечал.
— Мне казалось, что это они меня не замечают, — ответил Биральбо, он стал подозревать, что Малькольм врет или говорит о ком-то другом.
— Даже Лукреция. Да, и она тоже так смотрела. — Он резко замолчал, как будто едва не раскрыв какую-то тайну, глотнул джина, вытер губы рукой. — Ты, конечно, не видел этого, а вот я не забыл, как она на тебя смотрела. Ты поднимался на сцену, брал первый аккорд, и для нее уже не существовало ничего, кроме твоей музыки. Помню, как-то я подумал: «Вот такого взгляда и ждет мужчина от любимой женщины». Она ведь ушла от меня, знаешь. Мы прожили с ней вместе целую жизнь, и вдруг она бросила меня одного в Берлине.
«Он лжет, — подумал Биральбо, пытаясь не попасться в невидимую ловушку, сбежать от алкогольного бреда, — притворяется, что ни о чем не догадывался, хочет выведать что-то, чего я не знаю, но должен скрывать. Он все время врал, потому что не умеет иначе. Ложь вся эта ностальгия, дружба, боль, даже блеск его слишком голубых глаз, в которых нет ничего, кроме чистого льда, даже если и правда, что он, как я, один и потерян в Лиссабоне. Один, потерян, вспоминает о Лукреции и разговаривает со мной по той простой причине, что я тоже был с ней когда-то знаком». Так что надо быть начеку, надо перестать пить, сказать, что пора уходить, бежать отсюда как можно быстрее, прямо сейчас. Но голова тяжелая, музыка и мигающий свет оглушают — он посидит еще пару минут, ровно сколько нужно, чтобы выпить еще стакан…
— Я всегда хотел задать тебе один вопрос, — начал Малькольм. Он говорил так серьезно, что казался трезвым, хотя, может, это была серьезность человека, который едва не валится на пол. — Личный вопрос. — Биральбо замер, жалея, что так много выпил и вовремя не ушел из бара. — Не хочешь — не отвечай. Но если уж решишь ответить, обещай, что скажешь правду.
— Обещаю, — сказал Биральбо. И, чтоб подготовиться к защите, подумал: «Сейчас он скажет это. Сейчас он спросит, спал ли я с его женой».
— Ты был влюблен в Лукрецию?
— Теперь это не важно. Это было давно, Малькольм.
— Ты обещал сказать правду.
— Ты ведь сам говорил, что я не обращал внимания на женщин, даже на нее.
— Нет, на Лукрецию ты внимание обращал. Мы ходили завтракать в «Вену» и встречали там тебя. И в «Леди Бёрд», помнишь? Ты заканчивал концерт и подсаживался к нам. Вы много говорили, говорили, чтобы был повод смотреть друг другу в глаза. Вы читали все книги, смотрели все фильмы, знали имена всех актеров и музыкантов, помнишь? Я слушал ваши разговоры, и мне постоянно казалось, что вы говорите на каком-то чужом языке, которого мне не понять. Поэтому она меня и бросила. Из-за всех этих фильмов, книг и песен. Не отпирайся, ты был в нее влюблен. Знаешь, почему я увез ее из Сан-Себастьяна? Я скажу тебе. Ты прав, теперь это уже не важно. Я увез ее, чтобы она тоже не влюбилась в тебя. Но я бы ревновал, даже если бы вы не были знакомы, даже если бы вы никогда не встречались. Я тебе больше скажу: я до сих пор ревную.
Биральбо смутно осознавал, что они не одни в просторном подвале бара. Блондинистые женщины и мужчины, прикрывавшие лица, поднося сигареты к губам, поднимались и спускались по железной лестнице, а красные огоньки все зажигались над закрытыми дверями. С ощущением, что пересекает пустыню, он прошел через весь зал, направляясь в уборную. Почти прислонившись лицом к ледяному кафелю на стене, он чувствовал, что прошло уже много времени с тех пор, как он оставил Малькольма за стойкой, и что пройдет еще больше, прежде чем он вернется. Он уже собирался выходить, но не совладал с дверью, его сбивала с толку тишина и однообразие белых фаянсовых форм, размноженных в блеске флюоресцентных трубок. Он наклонился над огромной, как купель, раковиной, чтобы сбрызнуть лицо холодной водой. Открыв глаза, увидел, что в зеркале, кроме него самого, появилась еще какая-то фигура. Вдруг лица, глубоко погребенные в памяти, начали возвращаться в реальность, будто слетаясь на запах джина или Лиссабона, лица, навсегда позабытые и утраченные без возврата, про которые он и вообразить не мог, что увидит их снова. Зачем уезжать из городов, если они все равно преследуют тебя даже на краю света? Он был в Лиссабоне, в фантастической уборной «Бурмы», но лицо в зеркале перед ним, человек, стоявший у него за спиной, — увидев пистолет, Биральбо повернулся не сразу, — принадлежали прошлому и «Леди Бёрд»: с улыбкой, полной несокрушимого счастья, ему в затылок целился Туссен Мортон. Говорил он все так же: как негр из фильма или плохой актер, изображающий французский акцент. Седых волос у него стало больше, он немного располнел, но яркие рубашки с немыслимыми воротниками, золотые браслеты и спокойная вежливость гадюки никуда не исчезли.
Друг мой, — заговорил он. — Медленно повернитесь ко мне, но руки, пожалуйста, не поднимайте. Это ужасная пошлость, я такого даже в кино не выношу. Достаточно просто слегка отвести их от туловища. Вот так. Разрешите проверить содержимое ваших карманов. Чувствуете холод в области затылка? Это мой пистолет. В пиджаке пусто. Прекрасно. Остается проверить карманы брюк. Я все понимаю, не смотрите на меня так, мне столь же неприятно, как и вам. Представляете, если бы сейчас сюда кто-нибудь зашел? Он бы вообразил самое худшее, увидев меня так близко к вам, да еще в туалете. Но не волнуйтесь, наш друг Малькольм следит за дверью. Конечно, он не заслуживает нашего доверия, ни моего, ни вашего, так что, признаться, я не рискнул на него положиться. Стоит оставить его на минутку без присмотра, случится какая-нибудь неприятность. Так что рядом с ним милая Дафна. Помните Дафну? Мою секретаршу? Ей очень хотелось снова вас увидеть. Так, и в брюках ничего. А в носках?
Знаете, некоторые прячут там нож. Но это не для таких, как вы. Дафна мне не раз говорила: «Туссен, Сантьяго Биральбо — замечательный юноша. Неудивительно, что Лукреция бросила ради него эту скотину Малькольма». А теперь выйдем. Не вздумайте кричать. И убегать, как в прошлую нашу встречу. Поверите ли, у меня до сих пор болит то место, куда вы меня ударили. Дафна права: я неудачно упал. Вы, наверное, думаете, что стоит позвать на помощь, и официант вызовет полицию. Заблуждаетесь, друг мой. Вас никто не услышит. Вы заметили, сколько в этом городе магазинов слуховых аппаратов? Открывайте дверь. Проходите первым, пожалуйста. Вот так, не прижимайте руки к телу, смотрите вперед, улыбайтесь. Что-то вы растрепались. Побледнели. Вам стало плохо после джина? Кто ж заставлял вас ходить по барам с Малькольмом? Улыбнитесь Дафне. Она ценит вас гораздо больше, чем вы думаете. Идите вперед, пожалуйста. Видите свет, там, в глубине?
Биральбо не ощущал страха, только подступающую тошноту в желудке и раскаяние, что так много выпил, какое-то навязчивое чувство, что все это происходит не по-настоящему. Туссен Мортон у него за спиной бодро болтал с Дафной и Малькольмом, держа правую руку, слегка согнутую в локте, в кармане своего коричневого пиджака, будто подражая очерчивающему талию жесту танцора танго. Когда они проходили под большими, свисающими с потолка часами, их лица и руки окрасились в бледно-зеленый цвет. Биральбо поднял глаза и увидел надпись вокруг циферблата: «Um Oriente ао oriente do Oriente» [20].
Туссен Мортон мягко пригласил его остановиться перед одной из закрытых дверей. Все двери в коридоре были железные, выкрашенные в черный или в темно-синий цвет, так же как стены и деревянный пол. Малькольм открыл и, давая пройти остальным, отошел в сторону, с покорным видом склонив голову, как посыльный в отеле.