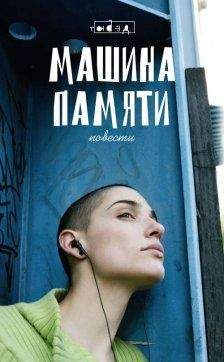Птичник № 8 - Анферт Деб Олин
Атмосфера понемногу накалялась.
– Это придумала Аннабел, – перебил их третий. – Значит, ей это зачем-то нужно.
Черт возьми, конечно, ей это нужно. И как же их это достало. Они провели дюжины расследований. Привлекали фермеров к суду, выдвигали на референдум законопроекты, голыми руками доводили до банкротства целые птицефабрики. Гробили позвоночники, отношения, психику, будущее, отдавали все, что имели, снова и снова подвергали свою жизнь опасности – ради чего? Птичники как стояли раньше, так и продолжали стоять, их только больше становилось.
– Птичники строятся по всему миру. Болезнь распространяется.
– После моего последнего расследования фермеры построили еще два птичника. Мне только и остается, что ездить мимо и плеваться.
– А мое дело было прекращено. Судья сказал, у кур нет исковой правоспособности.
– Как же меня бесят эти чмошники с их офисами в Лос-Анджелесе, модной мебелью, модными костюмами и модной едой.
– И с этими их выпендрежными альбомами с их же собственными огромными портретами на обложке.
– С их долбаными звездами-благотворителями.
– С их каникулами в Индии.
– Некоммерческие, мать их, организации.
– Наваривающие деньги на нашей работе.
– Аннабел всегда была за старое доброе равноправие.
– Никаких полумер. Никаких компромиссов.
– Пока не ушла.
– Она не ушла. Она залегла на дно.
– Освобождай или умри.
И тут один сказал: “Я с ними”. Он встал, нарисовал на листе крестик. Напустил на себя невозмутимый вид, но наверняка надеялся, что еще кто-нибудь подскочит и скажет: “Я тоже”, станет номером два. В одиночку ты как человек-бутерброд с рекламным плакатом на спине и груди. Вдвоем можно танцевать вальс. Четыре – это уже бэнд. Он направился к двери. “Подожди, – окликнул кто-то. – Я тоже”. Остальные с завистью посмотрели им вслед. Их обошли, они не стали первыми. Ведь они с самого начала планировали в это вписаться, нет? Потянулись другие. Они чертили крестик и уходили по одному или группами по трое. Некоторые явно знали друг друга не первый год, эти выразительно поздравляли друг друга, хлопая в воздухе ладонью о ладонь, и бросались за дверь так стремительно, будто их ждала веселая игра. Некоторые были серьезны, ставили отметку и с невозмутимым видом тяжелыми шагами выходили из сарая.
Час прошел, сарай опустел, осталось только двое. Женщина справа и мужчина слева. Они сидели и не мигая смотрели в пол из широких досок, который представлял собой комбинацию линий и прямых углов, внушающих человечеству покой в том объеме, в котором оно его жаждет. Видимо, так оно и есть, иначе бы мы не встречали этот узор повсюду, куда ни взгляни. Человечество помешано на прямоугольниках. Нас устроит любой угол в девяносто градусов, но хороший ровненький прямоугольник – это все, чего мы ждем от жизни: быть окруженными прямоугольниками, пересчитывать их, распределять по ним свое имущество, передавать их по наследству внукам, ложиться в один из них, когда умрем.
Гнилая затея, подумал человек, сидящий слева, Зи.
Но мало он, что ли, на своем веку повидал гнилых затей. Вся его жизнь представляла собой череду неудачных решений, часто, как и в этом случае, принятых не им самим. Но он как-то выкручивался. Ушел, устроился на работу в грузовую компанию в Чикаго, завел девушку (ну, вроде как завел), по-настоящему снял жилье. На неверных ногах старался идти дорогой обычного человека, и никто даже представить себе не мог, насколько это сложно. С каждым днем это становилось все больше похоже на правду, потому что и было правдой, ну почти правдой, очень близко к тому. Не надо было ему сюда приезжать. Но он приехал не ради Аннабел, а ради Дилла, не хотел его подвести.
А еще он в это верил, во все это.
Только бы не попасть за решетку.
– Ну и хрень придумала Аннабел на этот раз, – сказал он громко женщине справа. Встал, нарисовал на листке знак Z и вышел. Теперь женщина справа осталась в сарае совсем одна.
Эта последняя женщина, инспектор Джейни, сняла балаклаву и нахмурилась: эту хрень придумала не Аннабел. Ее придумала она.
Впрочем, хмурилась она недолго. От желудка по рукам и ногам медленно потекло тепло. Все это происходит на самом деле – или вполне может произойти, они действительно могут это сделать. Она закрыла глаза и с головой ушла в свое виде́ние: птицы вокруг нее взлетали в воздух, клетки рушились, как падают с деревьев гнезда, и среди шума хлопающих крыльев – голос матери. Она открыла глаза и вышла из сарая.
Было бы естественно предположить, что Дэв в Египте чувствовал себя свободным и преисполненным решимости после всего, что ему довелось пережить из-за Дилла. Но дела обстояли несколько иначе.
Дэв, хоть и находился в тысячах милях от дома (6489 миль), мыл руки в конце длинного коридора, на высоте восемнадцатого этажа от раскаленной земли. Он где-то читал, что мытье рук “повышает решимость”, поэтому каждый раз, когда внутри возникало жгучее желание написать Диллу, он вскакивал из-за стола и тихонько шел по коридору “Пан-Иджипт Интервест” к умывальнику из светлого камня. Дэв, как и предполагал Дилл, действительно вырос в семье иммигрантов в первом поколении, в двухэтажном отсеке дома на несколько семей с квадратом травы перед входом. Дом с сараем и прилагающиеся к ним поля Дэв унаследовал от двоюродного дедушки, который уж очень любил мальчишку. Дедушка первым покинул Индию и приехал в Америку, в этом доме он прожил двадцать шесть лет, “делил комнату” с владельцем небольшой органической фермы. Он помог своей племяннице и ее мужу обустроиться в Америке, знал Дэва с самого рождения, понял, что тот представляет собой, раньше, чем это понял сам Дэв, и, прекрасно помня, какой была его собственная жизнь (времена были другие), оставил мальчику дом и все, что к нему прилагалось, – курятник, землю и прочее.
А еще Дэву достался Дилл и все, что прилагалось к нему, потому что Дэв был без ума от любви, хотел совершать невероятные поступки, хотел принимать невероятное. Ему до смерти хотелось принимать невероятного Дилла. Но тогда он был юн, а за эти семь лет повзрослел. Он устал от необходимости постоянно усмирять все то дикое и необузданное, что его окружало, – и речь не о полях вокруг, по сравнению с Диллом их усмирять ничего не стоило. Но теперь, на высоте восемнадцати этажей над Египтом (конечно, надо послать смуглого – ну да, они же не видели никакой разницы между Египтом и Индией), в сердце его пробиралась какая-то новая тоска. Кем он был без Дилла? Он снова поспешил по коридору, чтобы еще раз вымыть руки.
Если бы он смог увидеть, что будет твориться во дворе его дома два дня спустя, он бы рассвирепел пуще прежнего и обнаружил бы, что ярость наполняет решимостью ничуть не хуже, чем мытье рук.
Джонатан Джарман-младший разработал план для трехсот троих расследователей. Если трехсот троих не наберется, ничего не выйдет. За ночь до эвакуации кур он разъяснял это Диллу, Аннабел и инспекторшам. У него была стопка из трехсот трех листов с распечатанными инструкциями, на каждом – индивидуальное задание с собственным расписанием, птичником, задачей, планом отступления и всем прочим. Они просили, чтобы план был рассчитан не больше, чем на трехсот человек, но он показал им свои расчеты и таблицы. При максимальном усилии каждого участника понадобится ровно триста трое, сказал Джонатан, или можно даже не начинать. Пока у Дилла наконец не вырвалось: “Да заткнись ты уже, мать твою”.
Рука Джонатана лежала на распечатках. Два пальца приподнимались и опускались в нетерпеливом постукивании. Ну в общем, чтоб они понимали. Триста трое – или он в этом не участвует.
По правде говоря, им пригодилась бы еще пара дюжин, для них он тоже распечатал задания, пятьдесят дополнительных листков, разложенных в порядке убывания важности, и сложил в отдельный конверт, просто на случай, если эти люди вдруг его удивят, чего, конечно, не произойдет, но если вдруг удивят, у него уже все будет готово.