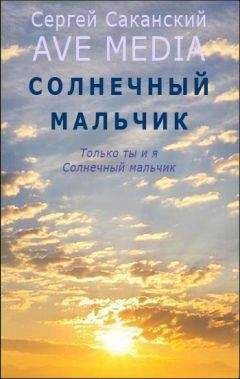Бруклинские ведьмы - Доусон Мэдди
— Я думаю… ну, я думаю, что уже покончила с ним на всех уровнях, которые идут в счет, — осторожно говорю я. Я практически уверена, что так оно и есть.
— Нет, — возражает он, — такого не бывает. Ты же была за ним замужем! И он ужасно с тобой поступил. С тех пор прошло всего несколько месяцев, люди так быстро не восстанавливаются.
— Но я же справилась! Я действую супербыстро. — А потом я рассказываю ему о Бликс, как тa произнесла слова, направившие меня к счастью, — заклинание, сбывшееся совершенно неожиданным образом. И вот пожалуйста, я прибыла к вратам счастья, говорю я, а все благодаря нескольким обращенным к вселенной словам, благодаря небольшому привороту. В какой-то момент мне приходит в голову, что надо позвонить Бликс и сообщить, мол, все сработало. Но потом эта мысль испаряется, ведь Бликс может не увидеть в происходящем той большой жизни, которую она для меня напророчила. Зачем же ее разочаровывать?
Я оглядываюсь на Джереми, который забавно трясет головой, будто в уши ему попала вода или произошло что-нибудь в том же духе.
— О мой бог! Пожалуйста, не говори мне, что я строю свое будущее счастье, опираясь на представление о вселенной какой-то гадалки!
Тут я смеюсь и целую его прямо в офисе, прямо в его гладкую, чисто выбритую щеку, но потом звонит телефон, и мне приходится вернуться за свой стол, чтобы ответить. Джереми стоит и наблюдает за мной, пока я вношу кое-какие коррективы в список пациентов. Я поглядываю на него краешком глаза и вдруг чувствую все опутавшие его сомнения, понимая, что в его глазах я как бейсбольная бита, а сам он — как мячик. И конечно, оттого, что Джереми во мне не уверен, мое сердце пронзает боль.
На следующий день я рассказываю об этом Натали, моему личному психотерапевту и наперснице.
— Я вот что хочу знать, — говорю я ей, — может ли человек (скажем, я) действительно так быстро оклематься после того, как его сердце было разбито? Или я просто себя обманываю?
— Ну, — задумчиво отвечает сестра, которая занята тем, что меняет подгузник Амелии и поэтому стоит ко мне спиной, — ну конечно же, ты можешь. Когда дело касается любви, может произойти что угодно. Что ты чувствуешь?
— Я чувствую… чувствую, что я в нужном месте. Там, где должна быть.
Она оборачивается и одаривает меня широкой улыбкой.
— О, я так рада это слышать, потому что и сама думаю то же самое. У вас с Джереми такое сильное взаимное притяжение! Если честно, мы с Брайаном вчера вечером это обсуждали.
— Честно?
— Ну да, вам же так легко вместе. И он веселый и славный, а ты выглядишь на самом деле здоровой и счастливой. Куда лучше, чем в последние годы.
— Ну да. В смысле, я думаю, что он замечательный. Вот только я… ну, не обмираю и не пугаюсь, когда бываю с ним. Понимаешь, о чем я? Я не чувствую… трепета. Мне просто уютно. Разве это и есть любовь?
Она смотрит на меня так, будто ей известна какая-то мудрость, до которой я еще не доросла.
— Конечно да. Это же такое облегчение — быть с парнем, который любит тебя больше, чем ты его, согласна?
И я, господи ты боже мой, думаю, она попала в самую точку. Так оно и есть: Джереми действительно любит меня больше, чем я его. Собственно говоря, он ведет себя со мной как щенок, который всегда хочет угодить хозяйке. Так вот откуда взялся этот малюсенький червячок сомнений: Джереми обожает меня, а я, xoть и могу составить список его замечательных качеств и знаю, что он идеально мне подходит, не испытываю своих обычных мук любви.
Сестра все тараторит:
— Это же зрелая любовь, глупышка. И это прекрасно! Вот увидишь. И тебе на одну заботу меньше. Он не думает ни о ком другом и не поймет внезапно, что на самом деле не любит тебя. — Она берет на руки Амелию, которая дрыгает пухленькими ножками и машет ручками. Племянница так мила, что я с трудом сдерживаю желание подойти к Натали и вырвать девочку у нее из рук.
— Вау, — говорю я, — ты права.
— Еще одна вещь. Как у вас с сексом? Я всегда говорю, что секс — это отличный показатель всего.
— Ну-у, его мать…
— Да, точно, у вас же его жеманная мамаша за стенкой. Ладно, значит, он должен переехать. И тогда все будет отлично. Да и, по правде говоря, секс потом перестанет быть самой важной на свете вещью. Вот увидишь.
Я окидываю взглядом сестру, которая, возможно, самый счастливый человек в мире, ухитряющийся без малейшего сожаления отдавать должное повседневной рутине брака. Она показывает мне переписку с Брайаном, где говорится о том, кто привезет молоко, и приготовить ли на ужин тако, и взяла ли сестра машину. Там ни словечка нет о вечной любви.
Когда мы перемещаемся в гостиную, Натали кладет Амелию в ее заводную люльку, и малышка засыпает под мягкое жужжание, а мы садимся на диван и пьем диетическую кока-колу. Негромко гудит кондиционер, и холодильник тоже его поддерживает. Взрослая жизнь кажется полной механических звуков. Вот и газонокосилки тоже их издают. Снаружи, как голубой драгоценный камень, блестит их плавательный бассейн, а в доме солнечные лучи подрагивают на толстом бежевом ковре Натали.
— Посмотри на нее, — шепчет Натали, и я поворачиваюсь к малышке, которая лежит в люльке, похожая на тючок с рисом.
Мы обе тихонько смеемся, а потом я заявляю:
— Я тоже хочу ляльку. Хочу, чтобы у меня был ребенок.
— Знаешь, что было бы круче всего на свете? Если бы ты тоже родила, и наши детишки росли вместе. Совсем как мы девчонками. И чтобы теперь с нами были реальные парни. Мужья.
— Это будет круче всего на свете, — говорю я.
И у нас начинается разговор о том, что мы с Джереми можем купить дом по соседству, когда поженимся, — это вовсе не рано обсуждать, говорит Натали, — а когда поймем, что пришло время, начнем заводить детей, и так далее, и тому подобное, что-то про играющих в теннис мужчин и про то, что мы с Натали всегда будем вместе, про барбекю по вечерам, про то, как мы станем взрослеть и стариться, и я едва слышу сестру, потому что кровь стучит в ушах, а сама я, возможно, слишком взволнована от чувства принадлежности этому месту. И вскоре я встаю и иду искупаться в бассейне, и лежу на спине в свежей прохладной воде, глядя в синее-синее небо с легкими белыми облачками, которые выглядят так, будто их нарисовал ребенок.
Именно так, думаю — нет, знаю — я, именно так и ощущается счастье.
17
БЛИКС
Я — все еще я. Я — все еще я. Я умираю, но по-прежнему остаюсь собой.
Я думаю, что вижу маму, чувствую ее руку у себя на лбу. Но потом оказывается, что это вовсе не мама; это Лола тут со мной.
И Патрик тоже. Я чувствую, как он держит меня за руку.
— Вы должны продолжать разбивать свое сердце, пока оно не откроется, — говорю я ему. — Это сказал Руми [11].
Хаунди откуда-то сообщает мне, что сердце Патрика уже разбито сильнее, чем это возможно вынести.
— Тсс, — шепчу я. — Для тебя осталось еще так много света, Патрик.
Я слышу, как он произносит:
— Бликс, я понятия не имею, о чем это ты. Хочешь, добавлю еще колотого льда?
Нет, я не хочу.
Ага! Тут снова появилась луна. И море. У нашей крови и у моря один и тот же pH, показатель кислотности.
Знает ли об этом Ноа? Патрик-то знает, могу поспорить.
Лола снова ушла, сказав, что ненадолго.
А бедный красавчик Ноа! Он так мало знает. Хочет, чтобы со мной тут вместо друзей были профессиональные медики. И не хочет разбираться в смерти. Не хочет знать, как она может быть частью хорошо прожитой жизни. Он сидит у моей постели рядом с Патриком и играет на гитаре, волосы падают на его прекрасное лицо, но я не столько слышу его музыку, сколько чувствую ее. Словно бы мои кости издают этот звук; трень, трень, трень.
Я чувствую, что говорю:
— Хаунди…
А Ноа смеется и повторяет: «Хаунди?» — и поэтому я понимаю, что сказала это вслух. Забавно, когда какие-то звуки существуют, но не достигают ушей.