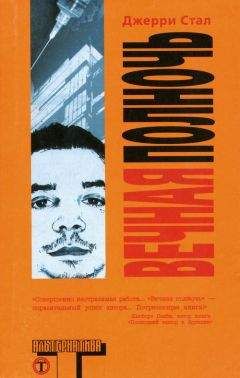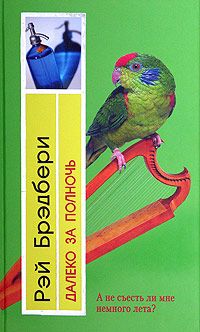Владимир Порудоминский - Позднее время
Машину останавливали в полусотне метров от места казни. Открывалась задняя дверца. Осужденных вызывали по одному. С вызванным выходил священник. Последний путь заканчивался у стены, сложенной из бревен и мешков с песком. Здесь человека привязывали к врытому в землю столбу. Солдаты с винтовками строились в два ряда: первый ряд стрелял с колена, второй стоя. Люди, оставшиеся в машине, застыв в молчании, слушали удаляющиеся шаги одного из них. До них доносилась команда офицера, руководившего казнью, и следом — залп. Иногда после залпа раздавался крик недобитого двенадцатью пулями человека, почти тотчас оборванный одиночным выстрелом. А потом снова — тяжелые шаги приближающихся фельдфебелей, которые сейчас назовут чье-то имя...
Как мог помочь людям пастор Харальд Пёльхау в эти тягчайшие для них минуты ожидания, которые остались самым ужасным воспоминанием его жизни? Он подходил к одному, к другому (руки у осужденных были схвачены наручниками за спиной), раскуривал сигарету и молча вкладывал в сухие губы человека, приготовившегося к смерти и никогда не готового к ней...
Древние греки клали в рот покойного монету, «обол» — это была плата Харону за перевоз.
При нацистах родственники осужденных на смерть платили за «перевоз» государству.
У меня хранится копия документа, определяющего назначенную нацистами цену смерти (цену жизни?):
Оплата смертного приговора — 300 рейхсмарок
Стоимость исполнения приговора — 122 марки 18 пфеннигов
Содержание в тюрьме (48 дней) — 73 марки 50 пфеннигов
Оплата почтовой пересылки данного счета — 12 пфеннигов
Всего (всего!) — 495 марок 80 пфеннигов
Счет отправлен для оплаты семье (наследникам) дамской портнихи Эльфриды Шольц, урожденной Ремарк.
Знаменитый брат, чьи книги публично сжигались на площадях, скитался по миру, сестра между тем на отеческой земле сболтнула что-то лишнее. Это считалось подрывом оборонной мощи отечества.
У нас государство было по-российски щедро и нерасчетливо: миллионы людей расстреляны бесплатно. Или, может быть, смерть (жизнь) и в копейку не ценилась?..
Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...
...В разных городах сразу несколько сходных судебных процессов: Krankenpfleger’ы в больницах убивали своих пациентов. Один такой убийца действовал в клинике, где я находился, и примерно в то же время. Он «перевез на ту сторону» тридцать три человека. Другой, еще где-то — двадцать четыре. Третий (или третья) — семнадцать человек. Убивали исключительно стариков обоего пола.
Отлично помню своих Krankenpfleger’ов (за редким исключением — молодые ребята) — умелых, заботливых, часто, в трудные минуты, трогательно ласковых. Они стали моими Харонами «наоборот»: перетащили меня обратно, с той стороны на эту. А ведь уже и кое-кто из своих смирился с мыслью, что, должно быть, настало мне время отправиться восвояси. Нико, Патрик, Саша, Михаэль... — нет, никогда не поверю, что кто-нибудь из тех, кто ставил мне капельницы, перестилал белье, убирал за мной нечистоты, ночью подкладывал мне под ноги подушку, а днем учил меня заново двигать ногами, что кто-нибудь из них мог бы однажды...
Но вот смог же кто-то. Этажом выше. В другом конце коридора. В соседней палате, может быть...
Что побуждало этих ребят убивать?
Прежде всего ищут обычно причину материальную. Сговор с нетерпеливыми наследниками, — что-нибудь в этом роде. Но можно ли себе представить, что в одной и той же больнице, притом никак не предназначенной для миллионеров, на протяжении года, двух лет оказалось более тридцати тяжело больных стариков, чьей смерти жадно ждали готовые заказать убийство родственники? Что все эти родственники-убийцы — целая толпа! — видимо, без особого труда находили услужливого медбрата, эдакого убийцу по призванию, готового, пренебрегая грозящим ему в случае разоблачения пожизненным заключением (смертная казнь отменена), превратить свою должность в некий комбинат бытового обслуживания (отель «Танатос»!)?..
Нет, я склонен поверить молодому убийце, когда он признается, что убивать побуждало его чувство жалости к тому, кого убивал. Наше «позднее время» представляется ему излишеством, ненужным, даже мучительным для нас самих. Он еще не проверил собственным существованием известного парадокса, что старость — единственный способ жить долго. Мы, люди «позднего времени», иначе, нежели он, ощущаем скорость движения времени и расходимся с ним в оценке конечного срока. Мы с почтительным изумлением размышляем над мафусаиловым веком библейских героев («всех же дней Мафусаила было девятьсот шестьдесят девять лет»), а ему наше «позднее время» («семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет») видится мафусаиловым веком. Наверно, старость иной раз блазнит их миражом покоя и воли, но созерцание немощи, болезней, утраты жизненных радостей быстро развеивает мираж. В стремлении избавить нас от нашего тягостного «позднего времени» они укрепляют весла в уключинах Харонова челна и торопятся оказать нам последнюю услугу...
...Возле меня, на соседней кровати, неделю или, может быть, десять дней лежал старик. Он не открывал глаз, не отвечал на вопросы — лежал с закрытыми глазами и либо стонал, либо спал, и тогда переставал стонать. Не знаю, был ли он без сознания или такое состояние и было его пребыванием в сознании. Лицо соседа, красивое, с резкими правильными чертами смотрелось отрешенно... — сказал бы: как у покойника, — но нет, в лице покойного мы непременно ищем что-то, и находим, — неподвижное лицо старика словно пребывало в ином, чем мы все, пространстве, куда не только нам самим, но и нашему взгляду доступа не было. Когда по утрам кто-нибудь из персонала обтирал это лицо влажной салфеткой, иногда даже брил, мне казалось, я вижу, как в музейном зале ухаживают за статуей. У старика были ампутированы обе ноги, очень высоко, по самые ягодицы. Его ягодицы, изборожденные глубокими рваными шрамами, были по-своему не менее приметны, чем лицо, — они хранили память прожитой жизни (я предположил для него военную биографию). Кормили старика, видимо, искусственно, с помощью капельницы; если к губам подносили поильник с водой, он делал несколько безучастных, автоматических глотков. Пищеварение между тем функционировало вполне активно. В палате появлялись Хамид и Саша, мыли больного, переодевали, меняли на кровати белье. Когда неведомый мне курс лечения закончился, короткое тело старика завернули в большое теплое одеяло и увезли обратно в какую-то богадельню (Seniorenheim) где, как мне удалось выяснить, он обитал уже долгие годы. (Слова «старик», «престарелый» числятся здесь некорректными, взамен говорят — Senior)...
С точки зрения целесообразности нахождение старика в живых вряд ли объяснимо. Но кто может проникнуть в мир, в котором он пребывает? Кому ведомо его предназначение? Кто знает, на какой цифре кончается циферблат?..
Я был знаком с одной старой женщиной. Когда она тяжко занемогла (а болезнь ее была та самая, которая дает сто процентов смертности — старость), врачи стали предпринимать все доступные меры, чтобы сохранить ей жизнь: ее перевели на искусственное дыхание, искусственное кровообращение, искусственное питание, сквозь отверстие в животе в нее вливали воду. Около года она не приходила в сознание, превратившись в своего рода механическую деталь той системы приборов, которые удерживали ее в живых, — стала частью шланга, трубочкой, сквозь которую приборы гнали кровь, кислород, питательные вещества. Но за несколько минут до смерти она вдруг открыла глаза и улыбнулась дочери...
Я приветствую эвтаназию, но можно ли предугадать, что придет в голову самоубийце через пять минут после того, как попытка отнять у себя жизнь не удалась?..
...Остров возвышался посреди океана, волны постоянно бушевали у его скалистых обрывистых берегов. С корабля, направлявшегося к острову, уже издали можно было различить узкую красную башню маяка с обращенным в сторону океана циферблатом часов. На острове располагался небольшой городок — что-то вроде американской провинции девятнадцатого — начала двадцатого столетия, какой ее изображают в кинофильмах: белые одно- и двухэтажные дома с полукруглыми балконами под холстинными полосатыми навесами, обсаженные кустарником дорожки от ворот к дому, небольшие, помеченные яркими простецкими вывесками магазины и лавки на главной улице, набитые табачным дымом салуны, где местные жители обменивались новостями и читали толстые газеты.
В определенные сроки, жителям заранее известные, океан полностью затоплял остров: тогда с проплывавшего корабля виделась над беспокойной поверхностью воды лишь оконечность башни с белым циферблатом часов, никогда не перестававших вести счет времени. Часть островитян, оформивших необходимый заказ, перевозилась на время затопления в другие страны, те, кто почему-либо не сумел или не захотел заказать для себя спасение, уходили под воду вместе с каменистой землей, на которой они жили. Но люди, избравшие исчезновение, приобретали бесценное преимущество: прежде чем погрузиться в небытие они могли назвать дату своего возвращения и, соответственно, вновь появиться на этом свете тотчас после спада воды, через сто или через тысячу лет — по желанию.