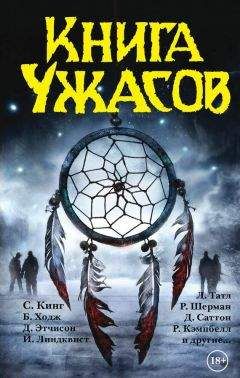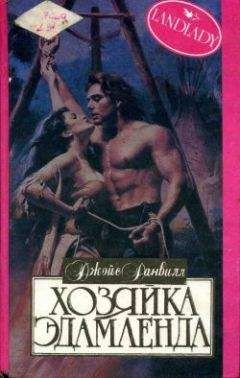Петр Краснов - Заполье. Книга вторая
Есть, и не раз, может, скажется в беспричинной вроде бы тоске детской, навещающей не только их, детишек, а и всех. По руке отцовской вышней, от гнусностей бытия оберегающей, какую ждут всю жизнь и дождаться не могут.
Палата особая, двухместная — облздравом зарезервированная, оказывается, для начальства всякого; но Парамонов сразу завел Ивана к заведующему отделением, осанистому старику с вопрошающим постоянно взглядом, познакомил-представил с некоторым излишком пафоса и с ходу предложил: «Иосиф Натаныч, давайте резервную откроем? На кой черт мы ее сторожим, для кого, если подумать?! Я его в общую, где продыху нету, а там какой-нибудь ворюга будет прохлаждаться? Они сами — саркома, метастазируют как…» «Ну, ты меня поагитируй еще… — И сказал Ивану, кустики бровей возмущенно вскинул: — Он, видите ли, агитировать меня будет, прямо по газете по вашей… хорошенькое дело! Можно подумать, я сам не умею читать. Что не понимаю-таки, где кисло, а где пресно… — Ящик стола выдвинул, порылся там в раздумье явном, хмуря недовольно лоб, подал Парамонову ключ. — Курс назначили? А с препаратами как?» — «А то не знаете! Циклофосфан есть, а вот эмбихина…» — «Ладно, зайдешь, покажешь мне все. Да, там с гастрологии просили за Леденева, у них переполнено… подсели, достойный человек. Ну-с, лечитесь, Иван Георгиевич, — поможем! Мы тоже люди, знаете ли, понимаем».
Так и звал «Георгиевичем», в знак уважения, должно быть, и приязни, хотя Парамонов и попытался раз подсказать, поправить.
Накануне же вечером написал матери письмо — задержится с обещанным приездом, дескать, работу ищет — и позвонил Поселяниным, рассчитывал побывать и у них.
— Где застрял там? Ждем же.
— Крепко застрял, Леш, — решил не тянуть он, себе тошней это — скрывать, экивоками мямлить. — В диспансере, онкологическом.
— Шутишь?.. — растерялся тот, а с ним это нечасто бывало.
— Кто ж этим шутит. Завтра иду в отлежку.
— Та-ак… Не спрашиваю, как и что, потом. И надолго?
— Месяца на два, говорят… с перерывами, а там видно будет. Мать навести при возможности. Не проболтайся гляди. На работу никак не устроится, мол.
— Ну да. Переборчивый: и то ему не так, и это не этак… — пришел в себя Поселянин. — Сделаю. А на днях подъеду, найду тебя там. Привезти чего?
— Здоровья… Ладно, не заморачивайся. На цветочки не рассчитывал.
Не ошибся в расчетах, это одно; а другое — что, разве можно было ошибиться? Только в одном случае возможно: если бы всем вертепом этим правило добро… ну, хотя бы на паритетных со злом началах, не так разве?
Уже после тощего и безвкусного, как в любой богадельне, обеда предложили сходить на рентген, предупредив, что с утра предстоит ему пройти полный цикл анализов всяких, — не мешкая взялись за дело, и то ладно. Ведомым шел за медсестричкой по коридорам и хоть не раз бывал в больницах, но нигде еще не чувствовал такого тяжелого, метафизически спертого духа безнадеги, как здесь, — в людях, их лицах и глазах, в самом воздухе… Да тут и здоровый захворает, как мать говорит, больниц никогда не любившая, да и за что бы их любить, оттого, может, и ставшая травницей. А вернувшись, застал за разборкой дозволенного больничного скарба соседа подселенного, от природы и первых седин белесого человека лет пятидесяти, с лицом изможденным уже, сосредоточенным, но не потерявшим уверенности в себе, что нечасто встречалось тут, — так, во всяком случае, показалось сразу Ивану.
Познакомились — «по именам, что там манерничать; бедовать-то вместе», как сказал на правах старшего сам Никита, — заварили свежий зеленый чай, сходив на кухню за кипятком, якобы противорадиационный, их еще предстояло «наловить» с преизбытком, рентгенов. На прикроватной тумбочке у соседа лежал Новый Завет, а под пижамой на теле бутылочка висела с выведенной в нее фистулой. О болезнях своих сразу договорились не поминать, не спрашивать — как, считай, в зоне о статьях, по каким сидят, да и темы нет более нудной и тоскливой. Работал Никита до последнего времени ведущим конструктором в «почтовом ящике», узлы новой крылатой ракеты разрабатывал.
— Что, уж и не секретите, кто и чем занимается?
— А что это даст? — сидя согнувшись на койке и чаек прихлебывая, пожал плечами Никита, будто даже усмехнулся острыми светлыми глазами. — Я еще только чертеж очередной разработки оформляю, а в Москве небось уже торгуются за нее с любознательными… Не наивничайте, нет больше у нас секретов. Кроме одного, может, какой на кольце у Бисмарка по-русски был выгравирован…
— «Ничего»?
— A-а, знаете… Ну так что вам объяснять.
— И хорошая получилась — ну, ракета?
— Приличная. За нее-то не стыдно.
— Да, за всех нас только…
Пробовали читать, каждый свое, не пошло, особенно у него, томящее посасывало желанием покурить; и Леденев отложил Новый Завет, спросил, не пойти ли в большое фойе, там меж двух кадок с полудохлыми пальмами стоял телевизор. Перед ним, работающим, спал в единственном средь нескольких старых стульев кресле молоденький совсем парнишка в казенной пижаме… ему-то за что? С одного канала переключили на другой, третий — везде шла либо развлекуха, вполне безмозглая, либо долдонили о демократии и тоталитаризме «говорящие головы», хлеб с гранд-приварком отрабатывали. Наконец, переждав визгливую рекламу, нашли на очередном передачу о животных африканских — в переводе от Би-би-си, кажется. Отвлекало, профессиональные были съемки, только очень уж натуралистичны, кровожадны некоторые сцены — с той же охотой львов, тем паче с пиршеством гиен: ошметья мяса и внутренностей, измазанные кровью морды и лапы этих без того отвратительных существ, суетня их, тявканье и хохоток глумливый, довольный…
— Экое зверство… — вроде как с иронией или простодушьем даже вздохнул Леденев.
— Вы так легко к этому относитесь?
— Я? Да нет, не сказать… Произволенье свыше на то.
— А сдается, что снизу. — Поднялся, отвратно что-то стало; и хохоток этот — кого напоминает так? Да Мизгиря же, оттенком сладострастным неким. — Сниже — по аналогии если, по смысловой. Из преисподней.
— И сверху, и снизу хватает здесь, кто ж спорит. За нами дело, за нашим выбором.
— И мы что, это выбрали? — ткнул Иван пальцем в экран, огляделся вокруг, взглядом обвел грубо побеленные вместе с обвисшей проводкой потолки, полутемный коридор с тусклыми голыми лампочками и облупившейся темно-зеленой краской панелей, всю казенную нищету заведения. — Или это?
— Не в том выбор, — скорее парню проснувшемуся, недоуменно взиравшему на них, чем ему, проговорил Леденев, потер проступившую седую щетину на скуле. — Тут — обстоятельства, и ничего более, а они от нас не зависят и десять раз еще переменятся… так? — кивнул он молодому, и тот с ответной надеждой боднул головой, соглашаясь. — А выбор — он внутренний твой, волевой, он один. Ну, попали в передрягу, обстоятельствам дрянным на зуб, сюда вот… как быть? Мужчиной быть. Человеком. Нету другого.
— Да это само собой. Прогуляюсь пойду, пожалуй…
Устыдил, что скажешь; но если и сбил, умерил базановские гнев и отвращение ко всему этому подневольному и злобному существованию, то ненамного, ненадолго. Не было оправдания этой злобе ни на земле, ни на небе, и протест его в злобе ответной пусть бессилен был, смешон даже, но прав. Шагал лесопосадкой, давя лиственную опаль и реденький, хрусткий, осеменившийся уже травостой, взял потом поперек нее, подальше от продышанных тоской недолгих постояльцев окон постылых больничных: прав, и не оспорить этого ни логикой никакой, ни сердцем, пусть самым всепримиряющим… Да иначе и незачем будет различенье добра и зла, и все тогда достославные системы нравственные рухнут, погребя под собой человека — если всерьез попытается он оправдать бытие это! И потому он лжет — себе, другим, богам своим, и вся жизнь его есть ложь вынужденная, самодовлеющей ставшая, какая и не может закончиться ничем иным, как уличением и отрицаньем ее, смертью, единственно достоверной и справедливой здесь. Ты, слышно, боролся за справедливость? Так получай ее.
И тут же вышел к ограде, из арматурных прутьев грубо сваренной, неширока оказалась посадка, от глаз людских заслоняющая последний для многих приют. Впритык почти шла за ней улочка с коробками блочных пятиэтажек, все теми же окнами типовыми глазевшая, за которыми все то же, разве что отсроченное… лента Мебиуса чертова, от бытия ушедши, к бытию же и придешь, некуда из него бежать, деться, из единственного, насильно навязанного.
Что, истерия — в угол загнанного? Похоже на то. И как-то продрог в спортивном своем шерстяном костюме старом, свеж был осенний уже предвечерний ветерок. Не надо было, незачем и разговор затевать при юнце, мутить в нем и без того мутное, болезненное, и вовремя Леденев повернул на другое, на стоицизм: какая-никакая, а опора. В себе, да, иной не найдешь.