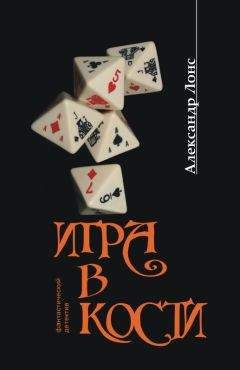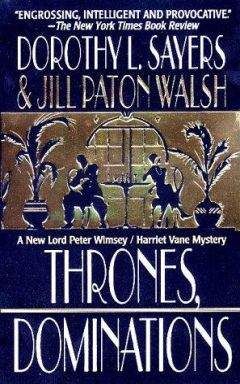Курт Воннегут - Порожденье тьмы ночной
— Возможно, — пожал я плечами.
— Как только решишь уж, что в жизни — ну, никакого смысла, — сказал он, — как — раз, и вдруг просек, что ты в аккурат для чего-то предназначен.
— Понимаю, о чем ты.
О’Хэа качнуло, но он удержался на ногах.
— Знаешь, чем я на прожитье зарабатываю?
— Нет.
— Диспетчер я. У меня грузовики мороженое возют.
— Что-что? — переспросил я.
— Грузовиков цельная армия. Ездиют по предприятиям, пляжам, стадионам — всюду, где толпится народ. — О’Хэа, казалось, напрочь забыл обо мне на секунду-другую, смутно вспоминая миссию руководимых им грузовиков. — Машины дли мороженого прямо на грузовике, — пробормотал он. — И всего два сорта: ванильное и шоколадное. — Голос его звучал точно так же, как у бедняжки Рези, рассказывающей мне о чудовищной бессмысленности ее работы за сигаретным автоматом в Дрездене.
— Как началась война, — сказал мне О’Хэа, — я думал, мне получше обломится через пятнадцать лет, чем должность диспетчера по отгрузке мороженого.
— Надо думать, всем нам случается разочаровываться, — сказал я.
На эту вялую попытку протянуть руку братства О’Хэа не среагировал. Его беспокоила лишь своя печаль.
— Врачом хотел стать, — бурчал он. — В юристы думал податься, в писатели, архитекторы, инженеры, газетчики. Чего бы я только не достиг!
— Но тут женился, — продолжал он, — и жена пошла детей строгать, так мы с корешом завели дело по поставке пеленок, а, кореш возьми и сделай ноги с башлями, а эта знай себе все рожает. Ну, с пеленок я переключился на жалюзи, а как жалюзи накрылись, вышло мороженое. А жена все рожала, и машина все ломалась, мать ее так, и кредиторы заели, а весной и осенью термиты весь пол прогрызают.
— Сочувствую, — сказал я.
— Вот я и спросил себя, — продолжал О’Хэа, — какого ж рожна? Чего я не вписываюсь? В чем смысл-то?
— Хорошие вопросы, — мягко сказал я, передвигаясь поближе к тяжеленным каминным щипцам.
— И тут кто-то возьми и пришли мне газету со статьей, что ты еще жив. — И я увидел воочию злобную радость, охватившую его в тот момент. — Тут-то до меня и дошло, в чем смысл. Зачем я живу и в чем мое предназначение.
Выпятив глаза, О’Хэа шагнул ко мне.
— Вот он я, Кэмпбелл, прямиком из прошлого!
— Здравствуйте, — поклонился я.
— Ты понимаешь, что для меня значишь, Кэмпбелл?
— Нет.
— Ты — зло в чистом виде. Просто в чистом виде зло.
— Спасибо, — ответил я.
— Твоя правда — это вроде даже комплимент, — согласился О’Хэа. — Обычно и в плохом человеке есть что-то хорошее — почти столько же, сколько плохого. Но ты, — продолжал он, — ты — сплошное зло. Добра в тебе не больше, чем в дьяволе.
— Может, я и есть дьявол, — сказал я.
— Думаешь, мне такое на ум не приходило?
— Что ты собираешься со мной сделать? — спросил я.
— Кишки из тебя выпущу, — ответил он, покачиваясь с носок на пятки, поводя плечами, расслабляя их. — Как услышал, что ты жив, сразу смекнул, в чем мой долг. Нет, по-другому не выйдет. Все именно так и должно было кончиться.
— Не понимаю, почему, — сказал я.
— Ну так поймешь, ей-богу, поймешь, как миленький. Заставлю тебя понять. Ей-богу, я для того и на свет народился, чтоб кишки из тебя выпустить, прямо на месте.
О’Хэа обозвал меня трусом. Обозвал меня нацистом. А затем обозвал самым оскорбительным словом в английском языке.
Тут я и перебил ему здоровую правую руку каминными щипцами.
Это был единственный акт насилия, совершенный мною на протяжении всей своей столь долгой жизни. Я сошелся с О’Хэа в единоборстве и одолел его. Одолеть его было нетрудно. О’Хэа был так опьянен спиртным и бредовыми видениями торжества добра над злом, что и не ожидал от меня никаких потуг к защите.
Осознав же, что пропустил удар, что Дракон намерен задать Святому Георгию серьезную взбучку, он пришел в изумление.
— Вот, значит, ты как решил играть, — пробормотал он.
И тут мучительная боль множественного перелома пронзила, наконец, нервную систему, и на глаза его навернулись слезы.
— Пошел вон, — приказал я. — Если не хочешь, чтобы я перебил тебе вторую руку и не пробил голову. — Прижав кончики щипцов к его правому виску, я сказал: — Оружие — нож или пистолет, что там у тебя — я отберу.
О’Хэа лишь мотал головой, не в силах говорить от страшной боли.
— У тебя нет оружия?
Он снова помотал головой.
— Честно драться, — еле выговорил он. — Честно…
Я ощупал его карманы. Оружия не было. Святой Георгий собирался выпустить из Дракона кишки голыми руками!
— Несчастный ты полоумный кирной однорукий сукин сын, — сказал я ему. И, сорвав брезент с дверного проема, вышиб набитую на него крестовину. А затем пинком вышиб О’Хэа на лестницу. Тот повис на перилах, взгляд его приковала манящая бездонная спираль лестничного пролета, обещающая верную смерть внизу.
— Я ни твоя судьба, ни дьявола, — сказал я ему. — Ты только взгляни на себя! Приперся покарать Зло голыми руками, а теперь уходишь восвояси, стяжав славы не более, чем пешеход, попавший под автобус. И поделом. Человек, ополчившийся на зло в чистом виде, иной славы и не заслуживает.
— Всегда хватает весомых причин сражаться, — продолжал я, — но нет ни одной, чтобы без удержу ненавидеть, вообразив, будто твою ненависть разделяет Всевышний. В чем зло? В той огромной доле каждой души, что жаждет беспредельно ненавидеть, ненавидеть, залучив на свою сторону Господа. Этой своей стороной человек и липнет ко всякой мерзости.
— Это та сторона личности безумца, — сказал я, — что карает, поносит и радостно затевает войны.
То ли слова мои на него так подействовали, то ли спиртное, то ли унижение, то ли боль от сломанных костей — не знаю, но О’Хэа стошнило. И как! С четвертого этажа блеванул прямо на пол вестибюля.
— Поди вытри, — приказал я.
О’Хэа повернулся ко мне, глаза по-прежнему горели неукротимой ненавистью.
— Я тебя еще достану, братец, — прошипел он.
— Все может быть, — пожал я плечами. — Но твоего удела банкротств, мороженого, оравы детей, термитов и безденежья это все равно не изменит. Уж если тебе так неймется служить в Христовом Воинстве, попробуй Армию Спасения.
И О’Хэа ушел.
44: «КАМ-БУУ…»
Заключенным свойственно просыпаться и думать о том, что привело их в тюрьму. Для себя я на подобный случай вывел заключение, что меня в тюрьму привела неспособность пройти или перепрыгнуть через чужую блевотину. Я имею в виду блевотину Бернарда О’Хэа на полу подъезда у подножия лестницы.
Вскоре вслед за О’Хэа покинул чердак и я. Меня там ничто не удерживало. Совершенно случайно я прихватил с собой сувенир на память. Уже уходя, я случайно поддал ногой какую-то вещицу, и она вылетела за порог на лестницу. Я подобрал ее. Оказалось — пешка из комплекта шахмат, что я вырезал из ручки метлы.
Я положил пешку в карман. Она и по сей день при мне. И, когда я клал ее в карман, в нос мне ударил запах безобразия, учиненного О’Хэа в общественном месте.
Спускаясь по лестнице, я все сильнее ощущал эту вонь.
Вонь остановила меня на площадке у двери молодого доктора Авраама Эпштейна, человека, детство которого прошло в Освенциме.
Я и подумать не успел, как уже стучал ему в дверь.
Доктор открыл в купальном халате, пижаме и босиком. И удивился, увидев меня.
— Да? — спросил он.
— Вы не позволите мне войти? — попросил я.
— Вам нужна медицинская помощь? — дверь он держал на цепочке.
— Нет, — ответил я. — Дело характера сугубо лично-политического.
— Подождать с ним нельзя?
— Мне бы не хотелось.
— Объясните в двух словах, в чем суть.
— Я хочу предстать перед израильским судом.
— Чего-чего вы хотите? — переспросил доктор.
— Я хочу, чтобы меня судили за мои преступления против человечности, — объяснил я. — И готов ехать в Израиль.
— А при чем здесь я?
— Я думал, вы можете знать кого-то, кого это заинтересует.
— Я не представитель Израиля, — ответил доктор. — Я — американец. Завтра найдете сколько угодно израильтян.
— Я бы хотел сдаться человеку из Освенцима.
Мои слова привели доктора и ярость.
— Так найдите кого-нибудь, у кого Освенцим из ума нейдет! Их, таких, полно, кто больше ни о чем не думает. А я это все выкинул из головы. Напрочь!
И доктор захлопнул дверь.
Я снова застыл на месте, как вкопанный, обескураженный неудачей в том единственном, что я сумел надумать для себя. Да, конечно, Эпштейн абсолютно прав насчет того, что израильтян можно найти завтра утром.
Но ведь еще оставалось пережить целую ночь, а я не мог сдвинуться с места.
За дверью Эпштейн разговаривал с матерью. По-немецки.