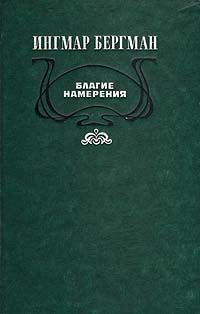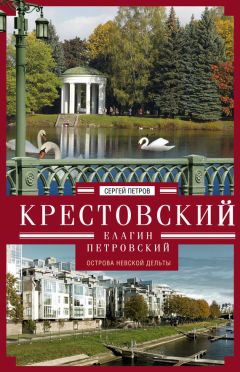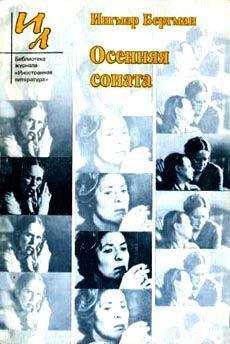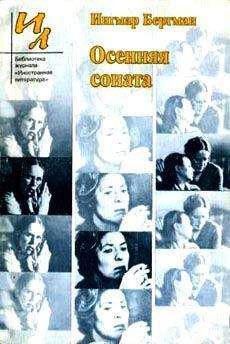Ингмар Бергман - Благие намерения
Анна (мягко). Мама, что с тобой?
Мать поворачивается лицом к дочери и недоуменно, как ребенок, смотрит на нее.
Карин. Я не понимаю. (Качает головой.) Не понимаю.
Анна. Мамочка, миленькая, иди сюда, давай сядем. Задернуть шторы? Тебе мешает солнце? Впрочем, оно скоро зайдет. Хочешь еще вина? Тебе станет лучше. Давай посидим с тобой вот так, тихонечко.
Анна крепко сжимает руку матери. Резкий солнечный узор на картинах в золоченых рамах и матово-красных обоях постепенно исчезает. Затихает перезвон колоколов, затихает день. Теперь слышно лишь, как где-то в глубине громадного здания гостиничный оркестр играет вальс из «Веселой вдовы»: «Lippen schweigen, 's flüstern Geigen: hab micht leib! All die Schritte sagen: Bitte, hab mich lieb!»[17]. Фру Карин отпивает вино, откидывается на диванные подушки и закрывает глаза.
Карин. Самое невыносимое, что я оставила его одного. Он был один, Анна! И это случилось ночью.
Анна (умоляюще). Мама!
Карин. Он был один, без меня. У него начались боли, и он встал с кровати. Потом сел за письменный стол, зажег лампу, достал бумагу и ручку и упал — на бок, на пол.
Анна. Мама, не думай про это.
Карин. Я тебе сейчас расскажу кое-что очень странное, Анна. Когда я решила ехать, когда все было уже готово, когда я попрощалась с папой и уже стояла на пороге, меня внезапно пронзила совершенно необъяснимая мысль: не делай этого!
Анна. Чего ты не должна была делать?
Карин. ...не делай этого. Не уезжай. Останься дома. Отмени все. На какой-то момент мне стало ужасно страшно. Странно, правда, Анна?
Анна. Да, странно.
Карин. Мне пришлось присесть, меня словно прошибло холодным потом. Потом я рассердилась на себя. Я не привыкла поддаваться случайным капризам или прихотям. С чего бы делать это сейчас, для этого не было ни малейшего повода.
Анна. Бедная мамочка.
Карин. Вот именно. Бедная мамочка. Я принимаю решения и выполняю их. Так было всегда. Я никогда не меняю своих решений.
Анна. Я знаю.
Карин. Большинство людей не любят принимать решения. (Пауза.) Я принимала немало глупых и неверных решений, но осмелюсь утверждать, что ни разу не раскаивалась. Хотя в этот раз... (вздыхает). О Господи!
На секунду она закрывает глаза рукой, но тотчас отдергивает ее, словно бы посчитав этот жест преувеличенным или, может быть, мелодраматическим, и отпивает глоток вина.
Анна (держит руку Карин в своей). Мама.
Карин. Когда папа спросил, не соглашусь ли я выйти за него замуж, несмотря на то, что он был почти вдвое старше и имел трех взрослых сыновей, я приняла решение, не думая. Мать остерегала меня, а отец был вне себя. Я не любила его, даже не была влюблена, это я знала точно. Но он был так страшно одинок с этими своими ленивыми домоправительницами, которые обкрадывали его и совсем запустили хозяйство, и со своими тремя невоспитанными буйными мальчишками. Я тоже чувствовала себя одинокой, вот я и подумала, что мы наверняка сумеем излечить друг друга от нашего одиночества.
Анна. Ты рассуждала вполне правильно.
Карин. Нет, Анна. Неправильно. С одним одиночеством еще можно справиться. Два — почти непереносимы. Но тут надо только не копаться в себе. А потом появились ты и Эрнст. Это стало чем-то вроде спасения — избавления.
Фру Карин виновато улыбается, она замечает, что употребляет непривычные для себя слова, делает непривычные для себя жесты, она пытается преодолеть гнетущее, набухающее горе, горе, которого никогда не переживала прежде. Она опустошает бокал.
Карин. Налей мне, пожалуйста, еще вина. А ты не хочешь?
Анна. Спасибо, у меня есть.
Карин. Так вот мы с Юханом выбрались из своего одиночества. Впрочем, не знаю. Может, это просто расхожее выражение. Но вы с Эрнстом принесли в дом большую радость, сблизили нас. Нам ведь все время приходилось заниматься вами, любая мелочь была важна.
Анна. И Эрнст стал мамочкиным сынком, а Анна — папенькиной дочкой.
Карин. Не знаю. Неужели?
Анна. Мама!
Карин. Да, да. Наверное, ты права.
Она сидит, отвернувшись, рана тихо кровоточит, почти уже не причиняя боли. Смеркается. Вспыхивают уличные фонари. Сквозь тишину и слабый уличный шум пробивается журчанье реки.
Анна (мягко). Давай ложиться, мама? Нам завтра рано вставать.
Карин (с отсутствующим видом). Да, пожалуй.
Тут она прислоняется лбом к плечу Анны, потом опускается ниже и прижимается головой к ее животу — загадочное движение, почти запретное. Анна отдергивает руки и складывает их на груди, она не знает, как себя вести. Но вдруг в порыве чувств она крепко обнимает мать. Карин всхлипывает — долго, прерывисто. Это необычно и пугающе.
Внезапно она высвобождается из объятий Анны, резко, чуть ли не грубо. Выпрямляется, проводит руками по лицу, поправляет волосы, дважды, и, потерев лоб, отклоняется вбок и зажигает торшер рядом с диваном. Бросает холодный, испытующий взгляд на дочь.
Анна (испуганно). Что случилось, мама?
Карин. Ты должна кое-что узнать.
Анна. Это касается меня?
Карин. В высшей степени.
Анна. А нельзя подождать?
Карин. Не думаю.
Анна. Тогда говори, если это так важно.
Карин. Речь идет о Хенрике Бергмане.
Анна (сразу насторожившись). Так. И?
Карин. Ты пишешь ему?
Анна. Да. Я писала ему. Письмо переслала Эрнсту, потому что не знаю адреса Хенрика. Кстати, ответа не получила. Очевидно, письмо затерялось.
Карин. Не затерялось.
Анна. Ничего не понимаю.
Карин. Ты должна узнать. Я получила письмо, прочитала его и сожгла.
Анна. Нет!
Карин. Я его уничтожила.
Анна. Нет, мама, нет!
Карин. Я обязана была тебе рассказать об этом, потому что твой отец меня предупреждал. Он сказал, что это нехорошо. Что мы не имеем права вмешиваться. Что это причинит вред. Он предупреждал меня.
Анна. Мама!
Карин. Я не собираюсь увиливать. Я считала, что делаю это ради твоего блага. Юхан предупреждал меня.
Анна. Я больше ничего не хочу слушать.
Карин (не слыша). Теперь, когда Юхана нет, я поняла, что обязана рассказать тебе о том, что произошло. Я даже не могу попросить тебя о прощении, потому что знаю, что ты никогда не простишь меня.
Анна (спокойно). Наверное, нет.
Карин. Теперь ты все знаешь.
Анна. Как только мы вернемся домой, я разыщу Хенрика и все ему расскажу.
Карин. Прошу тебя только об одном — не говори ему, что я сожгла письмо!
Анна. Почему?
Карин. Если ты выйдешь замуж за Хенрика. Понимаешь? Если ты ему скажешь, это будет непоправимо. Нам же вместе жить!
Анна. Почему?
Анна задумчиво разглядывает мать. Внутри приятно ворочается незнакомое ей прежде чувство бешенства.
Карин. Теперь ты все знаешь.
Анна. Да, теперь я все знаю. (Пауза, другим тоном.) Давай спать... Нам надо хоть немного поспать, завтра предстоит долгий день.
Она вскакивает с дивана, идет к двери и, обернувшись, вежливо желает спокойной ночи.
В то время (в июле 1912 года) университетский городок замирал так, что казался нереальным или, быть может, приснившимся. Если бы не птичий щебет в черных ветвистых деревьях, тишина была бы просто пугающей. Часы Домского собора, напоминающие о том, что время движется к своему концу, делают тишину еще более удивительной. «Флюстрет» закрыт, оркестры со своими попурри из «Золотых рыбок» и «Прекрасной Елены» перебрались к каким-нибудь целебным источникам или на курорты. В зажиточных домах окна занавешены простынями, словно бы там покойники, и над раскаленными тротуарами печально струится запах средства от моли. Привидение в анатомическом театре Густавианума спряталось в стену за картиной Улофа Рюдбекиуса. Бордель на Свартбэккен закрыт, и его усердные обитатели отправились в Гётеборг обслуживать прибывшую с визитом английскую эскадру. В старинном городском театре в солнечных лучиках, пробивающихся сквозь неплотно закрытые ставни и вычерчивающих волшебные узоры на немытых досках наклонной сцены, пляшет пыль.