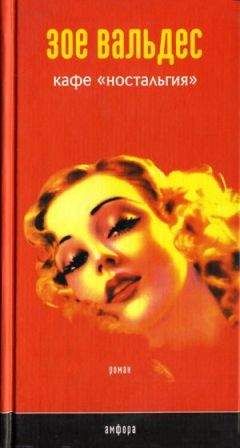Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 11 2005)
Помню, был неяркий, но теплый день, снег давно стаял, и земля успела подсохнуть. Мы долго шли пешком по полевым дорогам к небольшому, расположенному в тихой лесной лощине кладбищу. Я со страхом представлял, как вот сейчас, за поворотом, откроются первые могилы. Мне было лет двенадцать тогда. И кладбищ я боялся страшно, так что один вид скопления разноцветных надгробий вызывал дикий, с замиранием сердца ужас. Когда, очень редко, приходилось идти мимо кладбища, я весь напрягался, мне казалось, что одно неосторожное движение, одна только неверная мысль может вспугнуть тех, кто лежит под спудом земли, и произойдет нечто непостижимое, страшное. Мне и кошмары-то всегда снились про кладбище — будто брожу по знакомым, привычным местам, а там, куда ни глянь, везде могилы, могилы...
В тот день мой страх так и остался где-то в глубине души, не выплеснувшись наверх. Думаю, это потому, что ты был рядом со мной.
Ты легко нашел могилу, пройдя по какой-то хорошо тебе знакомой тропинке между надгробий. Постоял немного, глядя сосредоточенно на черный крест. Я не понимал и смотрел на тебя вопросительно: ты как будто не знал, что дальше делать. Потом открыл оградку, вошел внутрь. Мне было не страшно пойти следом за тобой.
За могилой ты ухаживал тщательно. Выпалывал степную траву, выросшую за прошедший год, подправлял надгробие. Руками загребал жирный чернозем, ласкал и гладил могильный холм, словно живое человеческое тело.
Потом, придя на кладбище один, я пробовал найти могилу твоих родителей. Мне казалось, что помню тропинку, по которой мы тогда шли: стоит только завернуть направо за угол, она там и окажется. Но справа я обнаружил целый лабиринт тропинок и, сколько ни бродил по ним, ничего не нашел. Ты один из всей семьи знал дорогу. Теперь, я думаю, туда никто не ходит, и могила заросла травой...
Мать то и дело принимается плакать: “Ведь он же давно, года два болел! Только он не говорил никому...”
Что ж, это был твой принцип — никогда никому не жаловаться. Я помню, как ты внушал нам необычно строгим для тебя тоном: “Никогда никому не жалуйся!” Я только теперь понял, насколько ты был прав. Жалующихся всегда презирают...
Мы с матерью этого не знали и жаловались всем подряд. Или, может быть, все-таки знали, но почему-то верили, что люди добры, они посочувствуют… Ты, лучше нас знавший людей, никогда этому не верил. И никогда не жаловался. Не обращал внимания на боли и странную слабость во всем теле. Твоя немного кичливая фраза: “У меня ничего не болит!” — ты часто повторял ее...
Вместе с матерью ты поехал к старшему сыну в Германию, потому что ему очень хотелось вас видеть. Ради него вы выдержали трое изматывающих суток в автобусе — я, ездивший в автобусе лишь 16 часов до Москвы, догадываюсь, каково вам пришлось. Ты рассказывал, как мучилась в дороге мать, но про себя молчал. Зато, отлежавшись, мать занялась привычными домашними делами. А ты слег. И через три месяца умер от страшной болезни.
Дождь моросил весь день, только к вечеру перестал. И я попросил тебя пойти вместе со мной погулять. Ты редко отказывал. Лишь когда приходил домой усталый или выпив после работы… Тогда я и сам тебя ни о чем не просил.
Мы шли по тротуару, старательно обходя лужи, рядом шумела улица. Было пасмурно, сыро и как-то очень приятно тепло; пахло прелыми тополиными листьями вперемешку с выхлопными газами.
Я рассказывал, что на переменах мои одноклассники гоняются по коридорам друг за другом, иногда подбегают ко мне, хватают сзади, разворачивают и прячутся за моей спиной. Однажды развернули так резко, что я чуть не упал.
— Мне уже опостылело, что они так гоняются... — закончил я.
Словечко “опостылело” я вычитал в учебнике истории: рабочим что-то там опостылело, я уж не помню теперь что. Это “опостылело” мне нравилось.
Ты сказал, что должны же быть одноклассники, с которыми я общаюсь.
— Там нет людей, которые мне могут что-нибудь дать...
— Но почему же сразу дать? — возразил ты чуть раздраженно. — А ты подумал, что они сами могут взять от тебя?
Я не ответил. Я считал себя слишком умным для компании моих сверстников и держался от них в стороне.
Некоторое время мы шли молча, потом я стал пересказывать тебе вычитанное из “Словаря юного химика”... Этот словарь ты мне подарил, он вскоре стал моим любимым чтением.
— Если взять кусочек сухого льда, положить его на мраморный стол, потом взять кастрюлю с водой, поставить ее на этот кусочек, то будут раздаваться звуки. Лед будет таять, и пар будет приподнимать кастрюлю. А сухой лед — это знаешь, что такое? Сухой лед — это замерзший углекислый газ. А ты не знаешь, где его можно достать?
Ты промолчал, и мне пришлось повторить свой вопрос. Тогда ты спросил, зачем мне сухой лед. Я не удивился: вы оба, и ты и мать, часто пропускали мимо ушей мою детскую болтовню.
Много лет спустя я понял: не вникая в смысл слов, ты как музыку слушал звучание моего голоса. Ты любил, как звучат детские голоса. У наших соседей по даче был маленький сын, и ты однажды обратил мое внимание, как он то и дело переспрашивает: “А?” Это и в самом деле звучало по-детски чисто, нежно, невинно. Красиво...
Нет, живется мне в Москве неплохо. Каждый день езжу в институт на метро. Помнишь, был в нашем городе фирменный рыбный магазин “Океан”, его теперь переделали в обычный супермаркет? Помнишь огромную холодильную витрину посреди зала? Ее искристые бока цвета морской волны, хромированные узорчатые перила… Эта витрина изображала море, в котором лежали на морозильных сетках белые от инея рыбины. Каждый раз, оказываясь с матерью в этом магазине, я воображал, что его витрина и есть метро, как в Москве.
Теперь-то я знаю, каково метро на самом деле.
По отделанным мрамором переходам толпами ходят люди. Кто сказал, что в Москве все бегают? В Москве еле передвигают ноги: чем гуще толпа, тем ленивее она движется. Плетется по переходам. Скапливается у эскалаторов. Сталкивается на лестницах. Путается под ногами. Коленями будто бьешься о твердую бетонную стену. Каждый встречный гонит впереди себя волну раздражения. В вагоне адский шум. Втискиваешься в него, разгоряченный ходьбой, с холода улицы в тепло подземелья, чувствуешь, как по спине скатываются крупные капли пота. Из метро выбираешься насквозь мокрым.
Но на метро удобнее всего ездить в институт. Там с нами нянчатся, как с маленькими детьми: ректор ходит по коридорам и студентов в верхней одежде отправляет раздеваться в гардероб. В деканате из-за каждой пропущенной пары разборка. На самом деле это очень кстати: сидишь на скучной лекции, и кажется, что это кому-то нужно.
С тоской думаю о предстоящих каникулах. Все разъедутся по домам наслаждаться свободой и бездельем, и я поеду домой. Буду сидеть с матерью в опустевшей квартире, утром пытаться что-то писать, днем в одиночестве бесцельно бродить по городу. Тосковать; считать дни до начала нового учебного семестра.
Ко мне заходят, только чтобы занять денег. Готовя пьянку, ходят по всем комнатам, собирают на бутылку. Иногда я даю. Иногда мне возвращают долг. Но часто я вру, что денег в данный момент нет, так что заходят ко мне все реже. Когда все варианты уже исчерпаны и к другим уже заходили.
Первое время я жил в комнате один и делал все, что хотел. Вставал в четыре утра и писал бульварный роман, потом мне за него заплатили какие-то гроши. Вечера напролет читал книжки. Прислушивался к доносящейся из коридора полифонии мужских и женских голосов, переходящих в смех, а иногда в пение. Читая книгу, старался о них не думать.
Со второго семестра ко мне подселили соседа. Я сначала был в ужасе, думал, как он стеснит меня. Но ужились мы превосходно. Сосед оказался человеком тихим; как и я, читает книжки вечера напролет. Правда, в отличие от меня, к нему заходят люди, так что иногда можно принять участие в чужом трепе. И я стал лучше, спокойнее спать по ночам. Просто потому, что рядом появился другой человек...
Наш класс повезли на экскурсию в краеведческий музей на большом автобусе с мягкими сиденьями — туристическом, как мы говорили. Когда проезжали мимо завода, на котором ты работал, я вдруг увидел, как из переулка, ведущего к воротам, выворачивает твой грузовик. Ты сидел за рулем и внимательно смотрел вперед, на дорогу. Мне захотелось показать всем, что ты едешь на этой машине, поэтому я вскочил, потянулся к открытому окну автобуса, закричал: “Папа! Папа!” Меня, разумеется, тут же осадили. Вечером я рассказал тебе про это происшествие. Ты отвечал, что за день выезжал с завода несколько раз, но ничего не заметил.