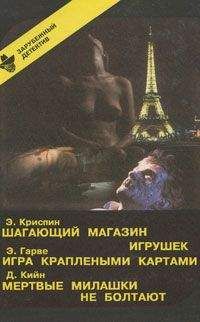Киран Десаи - Наследство разоренных
Вечереет и холодает. Джиан, кричавший вместе с демонстрантами иной раз для забавы, иной раз и всерьез, подогрелся алкоголем и заразился общим настроением. Он рассказывает о своих предках солдатах.
— …А пенсия, которую они получили! Думаете, они получили столько же, сколько и англичане их ранга? Умирать вместе, а денежки врозь…
Все здесь братья во гневе, гнев подбадривает их, похлопывает по спинам, по плечам. Раскрывает глаза. Становится ясно, почему он до сих пор без работы, почему не может позволить себе продолжить образование в Америке, почему стыдится показать свой дом. Он вспомнил, как удержал Саи от посещения своей семьи. Более того, становится ясно, почему так злит его отец, почему он не может разбудить этого сверхскромного старика, довольного своим классом из полусотни орущих пацанов, своей дурацкой школой. Встряхнуть бы его!..
Но что проку встряхивать старый дырявый носок! Только лишний раз расстраиваться…
И все прошлые разочарования, все моменты унижения слились в единую истину.
Все они здесь, в старой кантине, выплескивали свой гнев, убеждаясь, что старая ненависть не стареет. Она лишь выкристаллизовывается заново, очищаясь и усиливаясь. Печали улетучились, осталась злость. Прекрасный, возвышающий наркотик.
Благородная, мужественная атмосфера заставила Джиана устыдиться своих вечеров на веранде, тостов с сыром, пирожных и — хуже всего — этих дурацких сю-сю-сю с никчемной, избалованной девицей.
Он вдруг почувствовал на себе требовательный взгляд седых столетий.
И громогласно потребовал радикализации курса GNLF.
Глава двадцать седьмая
На следующий день Джиан прибыл в Чо-Ойю в настроении раздраженном, почти злобном. Таскаться в такую даль в такой холод за жалкие гроши! Они там живут в хоромах, горячие ванны принимают, спят в отдельных спальнях. Вспомнились и котлеты за ужином, и оскорбительное замечание судьи: «В математике вы, возможно, сильны, но в отношении здравого смысла, извините, подкачали».
— Как ты поздно! — сказала Саи, и он еще больше озлобился. Втянул зад, выпятил грудь, задрал нос. Злость туманила мозг, мешала думать и говорить. Новая, незнакомая ранее реакция на Саи.
*Чтобы его подбодрить, Саи рассказала о рождественской вечеринке.
— Три раза пытались поджечь бренди в столовой ложке…
Джиан, не обращая внимания на ее болтовню, открыл учебник физики. Ох как она глупа! Куда он смотрел?
Она опустила глаза в учебник. Давно они толком не занимались.
— Два тела, одно весом… другое весом… сброшены одновременно с Пизанской башни. За какое время и с какой скоростью они упадут на землю?
— Что-то ты сегодня не в духе, — сказала Саи и зевнула, явно намекая на существование иных, кроме физики, вариантов занятий.
Он сделал вид, что не расслышал.
И тоже зевнул, хотя и не хотел.
Она зевнула снова, со смаком, неторопливо, как хищная кошка.
Он зевнул кратко, смяв и проглотив свой зевок.
Она…
Он…
— Надоела физика? — спросила она, вообразив, что примирение достигнуто.
— Нет. Вовсе нет.
— Почему ж тогда зеваешь?
— ПОТОМУ ЧТО ТЫ НАДОЕЛА! ДО СМЕРТИ НАДОЕЛА!
Молчание.
— Мне неинтересно твое Рождество! Почему ты празднуешь Рождество? Вы хинду, но вы не празднуете Ида или день рождения гуру Нанака, или даже Дурга Пуджа, или Дуссехра, или тибетский Новый год…
Она тоже подумала почему? Не из-за монастыря же ненавистного…
— Вы, как рабы, слепо подражаете Западу, насилуете себя. От вас никакого проку…
— Нет, — отрезала она, пораженная неожиданным взрывом. — Нет, не из-за этого.
— Тогда почему?
— Потому что мне нравится праздновать Рождество. Если мне не нравится отмечать Дивали, я и не отмечаю. Рождество — такой же индийский праздник, как и любой другой.
Он вдруг почувствовал себя блюстителем религиозной чистоты и антигандистом.
— Делай что хочешь, мне плевать, — передернул он плечами. — Показывай всему свету, какая ты ДУ-РА!
Он подчеркнул последнее слово, наблюдая за выражением ее лица.
— Зачем тогда со мной заниматься? Иди домой!
— Да, ты права. Я уйду. Какой смысл с тобой заниматься? Ты способна только имитировать. Не можешь мыслить самостоятельно. Имитатор. Но только те, кому ты подражаешь, на тебя плюют. Ты им не нужна!
— Я никому не подражаю.
— Ах, как это оригинально — праздновать Рождество! Ты такая дура, что даже этого не понимаешь?
— Гм… Если ты такой умный, почему до сих пор не можешь найти работу? Сколько ни пытался — везде отказ.
— Из-за таких, как ты!
— Из-за таких, как я! И в то же время — я дура. Так кто ж тогда дурак? Иди-ка ты к судье, да спроси его, он тебе объяснит.
Она схватила стакан с водой, но руки так тряслись, что вода выплеснулась, еще не достигнув губ.
Глава двадцать восьмая
А судья размышлял о своей ненависти.
*Когда он вернулся из Англии, его приветствовал тот же самый духовой дуэт престарелых музыкантов, что и провожал. В этот раз трубачей, правда, невозможно было разглядеть из-за сверкания и дыма фейерверков и петард. Две тысячи человек встречали первого сына общины, зачисленного на гражданскую службу. Его задушили гирляндами, поля шляпы усеяли лепестки цветов. В тени на краю платформы он заметил чем-то знакомую фигуру. Нет, не сестра, не кузина. Ними, его жена. Она вернулась из отцовского дома, где проживала все время его отсутствия. Его общение с женщинами за все эти годы сводилось к обмену репликами с квартирной хозяйкой и кратким приветствиям в лавках.
Она подошла к нему с гирляндой, подняла ее. Глаза их не встретились. Он поднял взгляд, она опустила. Ему двадцать пять, ей девятнадцать.
— Такая робкая, такая робкая! — восторгалась толпа, уверенная, что это робость обожания. Зрители никогда не поверят в отсутствие высокого чувства.
Что ему с нею делать?
Он и забыл, что женат.
Нет-нет, знал он, разумеется знал; но эта особа осталась в прошлом, и в то же время она привязана к нему, как и положено было женам в те времена.
*Все пять лет Ними вспоминала о велосипедной прогулке, о замирании сердца, о том, какой желанной она ему показалась. Конечно же, она представлялась ему желанной, а Ними уже готова удовлетворить желания всякого, кому она показалась желанной. Она перерыла туалетный набор, привезенный Джемубхаи из Кембриджа, обнаружила кувшинчик с зеленой мазью, щетку для волос и гребень, отделанные серебром, пуховку с шелковой петлей в круглой пудренице, из которой до нее впервые в ее жизни донесся аромат лаванды. Чужой запах, запах иных мест. Пифит пахнул пылью, иногда эти запахи перекрывали ароматы дождя. Запахи Пифита сильные, весомые, заразительные. Об Англии представление самое смутное, мало что доходило до женской половины родительского дома. Например, то, что англичанки играют в теннис в нижнем белье.
— В шортах! — поправил один из молодых дядьев.
— В нижнем белье! — настаивали обитательницы женской половины.
Как бы она вела себя среди женщин, играющих в теннис в нижнем белье?
Она сжала в руке пуховку судьи, расстегнула блузку и напудрила груди. Снова застегнула блузку на все крючки, оставив эту пушистую штучку внутри. Детство какое-то, понимала она, но руки сами проделали это нечистое действо.
*Вечера в Пифите длились долго, Пателы отдыхали, перебарывая страх перед временем, убеждая себя, что оно отомрет и снова двинется неспешным шагом. Лишь Джемубхаи отвык от этой туземной неспешности.
Он сел, беспокойно огляделся, уставился на крылатого динозавра с пурпурным клювом, банановое дерево, как будто впервые в жизни увиделись они с этим деревом. «Иностранец!» — кричало ему его сознание, кричали все части тела — кроме пищеварения. Оно отрезвляюще констатировало, что Джемубхаи вернулся домой, оно функционировало безотказно, заставляя его с проклятием и хрустом сгибать джентльменские колени в наружном клозете. Работало как западная транспортная система!
От нечего делать принялся рыться в своих вещах, обнаружил пропажу.
— Где пуховка из моей пудреницы? — недовольно повернулся Джемубхаи к дамам семейства Пател, раскинувшимся на покой в тени веранды.
— Что? — поднялись и повернулись в его сторону головы.
— Кто-то тут рылся…
А кто, собственно, там не рылся, в этих безделушках? Их представления о частной сфере оказались далекими от представлений иностранца, но при чем тут воровство?
— Что ты потерял?
— Пуховку.
— Это что такое?
Он попытался объяснить.
— А для чего же это такая штуковина служит, баба? — Они искренне пытались понять.
— Розовая и белая? И ты это кладешь на кожу? Зачем?
— Какая, какая? Розовая?