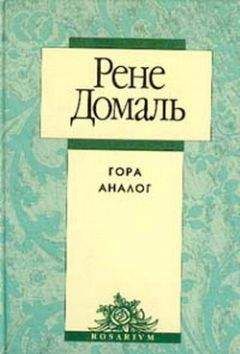Хьюго Клаус - Пересуды
Сенатор Жюль Арно Ламбер де Кантилльон спешно возвратился домой. Все видели, как он вылез из своей «лянчи», одет прекрасно, реденькие волосенки зачесаны «заемом» и смазанны бриллиантином, и ни одной морщинки на лице — впрочем, как у всякого недоброго человека. Наш Кантилльон позволил нам полюбоваться собой: своим клетчатым костюмом-тройкой, галстуком-бабочкой и английскими туфлями с узором из дырочек.
Разъяренный ужасным видом и запахом опочивших норок, он осмотрел их тела. Шкурки, конечно, безвозвратно испорчены, куски меха выдраны, а раны полны синей, светящейся крови.
Кантилльону предстояло показать, какие меры он, представитель древнего рода, предпримет, коль скоро задето его самолюбие.
Избранных представителей общественности пригласили в бильярдную замка. Были: губернатор, каноник, вице-директор Банка Рузеларе, профессор Майербак (специалист по мистическим инфекционным болезням) и экс-комиссар, грозный Жильбер Блауте. Они выпили тепловатого портвейна. Профессор Майербак привез с собой документы, графики и таблицы и, поясняя их, травил банальные анекдоты. Каноник призвал объявить Е.П. Ламантайна мучеником. Блауте был немногословен и заговорил только когда общество уже не в состоянии было следить за докладом ученого мужа, пришедшего на основании своих разысканий к выводу, что чем глубже исследуешь эту напасть, тем больше мистики в ней находишь. Все согласились с каноником, настаивавшим на благоразумной осторожности, ибо, добавил он, наше население легковозбудимо. А также с тем, что источник бед должен быть осушен. Как можно скорее. Тайно и эффективно.
Были еще протесты, сомнения, изъявления верности, предложения хитрых тактических ходов, но как только подали обед, pâté sauvage aux pistaches[93] (под аккомпанемент вопросов профессора Майербака, желавшего знать, не приготовили ли его из издохших норок) и blanquette de veau[94], (крошечные порции, словно имелся в виду не обед, а легкая закуска для аристократов), сопровождаемые благодатными струями Volnay и Pommard[95], все пришли к согласному вердикту, что практические действия по делу Катрайссе могут быть по умолчанию доверены экс-комиссару Блауте. Неугомонный профессор Майербак предложил, чтобы каноник одобрил это соглашение чтением Nihil obstat[96], каноник возмутился: «Прекратите дурачиться».
Губернатор согласился:
— Scripta manent[97].
Вице-директор Банка Рузеларе завел разговор о создании специального фонда для наемников в Африке и предложил себя на роль исполнительного директора. Ирония, которую присутствующие, несомненно, почувствуют, сказал он, состоит в том, что фонд, создаваемый для рекрутирования наемников, может способствовать впоследствии их исчезновению.
Губернатор дал понять, что в высших сферах ведутся кулуарные разговоры и вносятся предложения, точнее сказать, инструкции, из которых ясно, что было бы полезно, если бы в будущем использование наемников свелось к минимуму, а в идеале совсем прекратилось. Эти мальчишки внесли свой вклад в поддержание нашего престижа и права на присутствие в Африке, но они свою задачу выполнили, и мы в них больше не нуждаемся.
Юлия
Отель «Золотистая иволга» — просторная вилла в дюнах, построенная правительством Бельгии после Первой мировой войны для королевской семьи, — был продан королем концерну «Хилтон».
Комнаты обиты розовым шелком, мебель шведская, а ковры зеленые, в цвет моря.
На десятый день после того, как Юлия и Рене туда въехали, портье, благожелательно улыбавшийся им по вечерам, когда они шли к морю, протягивает Рене конверт. Юлия видит, как побелел Рене.
— Кто это принес? — спрашивает он дрогнувшим голосом.
Портье настороженно глядит на Юлию.
— Кто? — спрашивает Юлия. Страх Рене передается и ей.
— Мальчишка.
— Что за мальчишка?
— Мальчишка. В скаутской форме. Положил конверт на стойку и убежал.
На конверте стояло: «Комната 12». Рене вскрыл его и вытащил открытку: водосток-химера собора Парижской Богоматери. На обратной стороне стояло: «Скрижали разбиты. Сегодня вечером, в восемь, передел частей на Марине».
Рене тащит Юлию за собой к вертящейся двери, в крыльях которой мелькают, сменяясь, разрезанные на куски картинки: залив, пляж, маяки. Он идет быстро. Ей трудно за ним угнаться. Она рада: он выглядит почти здоровым. Он озирается по сторонам, бежит, увлекая ее за собой, к парковке, они прячутся за автомобилем, он сжимает ее пальцы.
— Тебе нельзя возвращаться в отель, — задыхаясь, шепчет он.
— Но там мои деньги, паспорт, документы.
— Оставь, после заберем. Они тебе пока не понадобятся. Сходи в кино. Только не в казино.
Потом не очень уверенно, но решительно он говорит, что зайдет за ней в кафе-мороженое, напротив станции, после полуночи.
Спрашивать, что случилось, не имеет смысла. И она повторяет только шесть, нет, семь раз, что любит его, говорит, как жаль, что сегодня она не успела смазать его израненную спину мазью. Вечером надо будет обязательно смазать его раны, говорит она.
— Будь осторожен, — говорит она, но и это тоже бессмысленно.
Она дважды посмотрела фильм, где речь шла о фотографии, на которой случайно оказалась запечатленной сцена убийства, но так и не поняла, в чем там, собственно, дело, по экрану дефилировали девушки, совсем раздетые либо в нарядах от Мэри Куант и в прическах, скопированных с Джин Шримптон[98]. Дважды она расплакалась, когда в киножурнале показывали пожар, случившийся в огромном магазине, там погибло триста двадцать пять человек, и дважды злорадно усмехнулась, когда рассказывали о третьем по счету выкидыше, случившемся у королевы. Потом быстро, жадно съела порцию картошки-фри с майонезом, потом заглянула в дансинг, полный разгоряченных англичан. Возле туалета какой-то деревенский увалень с сальными кудрями ныл и спрашивал, можно ли ее поцеловать, потому что у него сегодня день рождения. Пришлось сказать, что она не любит дней рождения. Потом прогулялась до конца волнолома, смертельно пугаясь каждого встречного: она боялась всех, кроме Рене. Наконец, дошла до кафе, съела четыре порции мороженого и стала ждать.
Потом съела еще две порции: персик мельба без взбитых сливок. И ждала, ждала, не находя себе места от волнения.
Кэп
Старое корыто «Марина» некогда было кораблем, который город подарил королю на пятидесятилетие, а король продал его какому-то промышленнику. С тех пор корабль оставался на приколе в гавани, никто им не интересовался, он потихоньку приходил в негодность и был до последней степени загажен чайками.
В полночь Рене вспрыгнул на палубу. Но никого не увидел. Корабль его не интересовал, он остался на носовой палубе; в городе горели все огни. Он сел на свернутые канаты. В небе светились Большая Медведица, Андромеда, Персей; Юлия, наверное, тоже сейчас их видит. У него не хватило времени объяснить Юлии смысл сообщения Кэпа. Кэп обожал игры, маскарады, детские коды. У него были паспорта на имя Абрахама Иккса, доктора Мидаса, Пьера Перрюше и так далее.
— Юлия, — заговорил Рене, — все очень просто. Скрижали — каменные, значит, речь идет о камнях. Алмазы — камни, и они теперь разбиваются, вернее разделяются, несмотря на их неразбиваемость, тверже них ничего нет, в денежном эквиваленте. Они будут разделены между избранными из числа наемников.
Он собрался было объяснить ей, почему на открытке изображен водосток-химера, эмблема дружбы, нерушимой и в самых мерзких ситуациях, когда Кэп перелетел через перила и, прекрасно сложенный, сильный, нервный, приземлился на палубе. И мгновенно выпрямился.
— Привет.
— Привет.
Кэп явно принимает амфетамин, глаза у него красные, руки мелко дрожат.
— Никого не встретил по дороге?
— Нет.
— Это хорошо, — замечает Кэп.
— Хотя… Ну да. Погоди-ка. — Рене внимательно глядит на него, ища признаки беспокойства, но Кэп, как в лучшие времена, невозмутим, словно игрок в покер.
— Двое парней в серых костюмах на Энзорплейн. У одного — заячья губа.
— Мои люди, — откликается Кэп. — Группа тыловой поддержки.
— Это хорошо.
— Где Юлия?
— В кино.
— В такое время?
— Не беспокойся, за ней присматривают. А где Шарль?
— Он свою долю получил. Купил квартирку в Брюгге. Хорошенькую, с видом на Минневатер.
Нет смысла спрашивать, как он нашел меня в отеле, откуда узнал, что Юлия со мной. Была.
Они стоят у перил. Кэп усмехается:
— Первое, что Шарль сделал, когда получил свою долю звонкой монетой, побежал в магазин, словно деньги жгли ему руки, в «Карнаби-стрит». Жаль, ты не видел его, в индийской шали и рубашке в цветочек, с его-то дурацкой мордой.