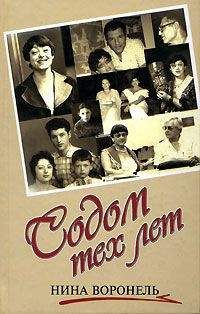Нина Воронель - Тель-Авивские тайны
— Вы что, спятили тут оба? — завопила я, слегка разряжая этим криком свои перенапряженные нервы.
Они повернули ко мне абсолютно потусторонние лица, явно не понимая, кто я и чего ору. Но меня уже понесло.
— Сейчас же прекратить это безобразие, — не помня себя, взвизгнула я и, растоптав по дороге Никитине творение, рванулась к табурету. Я схватила в охапку свою старую идиотку-мать и бережно поставила ее на пол: она так заледенела, что могла рассыпаться на мелкие осколки при неловком приземлении.
— Чего ты? — спросил Никита, как всегда, обезоруживающе кротко, бережными пальцами устраняя ущерб, нанесенный его глиняному детищу моим яростным каблуком. — Мы ведь работаем.
— Ты не видишь, как она закоченела? Или ты хочешь, чтобы она заболела насмерть? — лицемерно запричитала я, заворачивая маленькое мамино тельце в теплую шаль: ее выступление перед Никитой в обнаженном виде волновало меня куда больше, чем ее здоровье.
— Представляешь, я уговорила Никиту найти пластическое выражение для идеи вечно-женственного! — радостно сообщила мама, выпрастывая из-под шали свои сморщенные сиреневые лапки.
— Еще бы, кто лучше тебя может представлять идею вечно-женственного! — вяло пробормотала я, чувствуя, как мое раздражение уступает место свинцовой усталости. — Беги оденься, а я пойду спать.
— Так рано? — удивилась мама. — Мы же не ужинали.
Но мне было не до ужина. После бессонной ночи и бурного рабочего дня я хотела только одного — спать, спать, спать.
Однако выспаться в эту ночь мне не удалось, меня разбудил надсадный телефонный звонок. Чертыхаясь, я пыталась на ощупь найти во тьме этого пронзительно звенящего монстра, но спросонья никак не могла. Вспыхнул свет — в комнату в тревоге вбежала мама:
— Кто может нам звонить среди ночи?
Это был Женька — он поспешно сказал:
— Нонна, прости, что пришлось разбудить, но случилось несчастье. Ты ведь говорила, что твоя мама — врач? Я уже вызвал тебе такси — бери маму и приезжай немедленно.
— Но она уже на пенсии, — сонно пробубнила я.
— Это не важно, важно, чтобы все осталось в семье, — отрезал Женька.
Где-то в трубке на заднем фоне рыдал высокий ломкий голос, и сердце мое екнуло: Дина! А такси уже гудело под дверью.
Через минуту мы с мамой, одетые кое-как, загрузились в такси и помчались по спящему городу, разбрызгивая фонтаном дождевые лужи.
Дина лежала на кровати в спальне Платиновой, которая была ближе всех к ванной. Лицо у нее было голубовато-белое, словно вылепленное из алебастра, и нельзя было понять, дышит она или нет.
Пока мама осматривала ее, Зойка нашептала мне, что где-то к концу ночи Дина, вероятно, выскользнула в спальную квартиру, заперлась в ванной и вскрыла себе вены. Сперва никто ее не хватился, — было полно клиентов и все были навеселе. Но когда все разошлись и в ванную образовалась очередь, Зойка заметила, что Дины среди них нет и подняла тревогу — мне почему-то верится, что точное время тревоги было между ними сговорено. Тамаз взломал дверь — Дина, в зеленом кружевном платье, лежала без сознания в ванне, полной крови. Кровь была всюду — на стенах, .на полу и даже на потолке.
Мама моя оказалась на высоте — выбегая из дому, она не забыла захватить свой профессиональный чемоданчик, который всегда содержала в полной боевой готовности с тех пор, как вышла на пенсию.
Она быстро сориентировалась, сделала все нужные уколы, перевязала Дине кисти рук и вернула ее к жизни, прописав ей три дня полного покоя.
Надо признать, Женька заплатил маме щедро. Впрочем, щедрости его хватило ненадолго: назавтра Зойка донесла мне, что он пригрозил вычесть эти деньги из Дининых заработков. Но Дине это было все равно — на отдачу долга Феликса она уже заработала, а остальное ей было без разницы. У нее была теперь только одна цель — добраться до Феликса с деньгами, пока его не прикончили.
Все эти три дня, что Дина безмолвно пролежала в постели, Женька с Тамазом по очереди дежурили в спальном помещении, пока я там убиралась. Зойка перехватила меня как-то на кухне и шепнула, что теперь они сторожат Дину день и ночь. Неясно, чего боятся, — то ли что она опять чего-нибудь с собой сотворит, то ли что попытается через меня передать записку на волю.
Но однако они недосмотрели — она умудрилась сунуть записку в руку маме, которую на второй день я снова привезла по требованию Женьки, так как Дина грохнулась в обморок по дороге в туалет. Я так и не знаю, она притворилась или и вправду потеряла сознание, потому что записка у нее была заготовлена заранее — то ли в расчете на приезд мамы, то ли просто так, на всякий случай. Записка была лаконичная и четкая: «Тетя Нонна, пожалуйста, суньте мне под подушку записку с адресом нашего заведения и с телефоном пожарной команды и скорой помощи. Если останусь жива, век буду за вас бога молить».
После прочтения этой записки все романтические струны в душе моей мамы зазвенели так пронзительно, что мне потребовалось немало изворотливости, чтобы ее обезвредить. Пришлось рассказать ей про долг Феликса и про диссертацию Дины и взять с нее обет молчания, потому что мама никогда не умела хранить тайны, хоть свои, хоть чужие.
Выслушав меня, мама пообещала в течение недели не предпринимать никаких шагов к спасению Дины при условии, что я временно возьму эту задачу на себя. Я готова была взять на себя, что угодно, только бы она не лезла в это дело. Во всяком случае записку с адресом нашего заведения и с телефоном пожарной команды я умудрилась ловко сунуть Дине под подушку, пока меняла ей постель.
Все эти дни Дина безучастно лежала в постели, тихая, голубовато-белая, словно неживая. Только на третий день, когда Тамаз задремал, сидя на пороге Дининой комнаты, она вопросительно подняла на меня глаза — в них сверкал такой мрачно-золотой огонь, что мне стало не по себе. Я утвердительно кивнула ей в ответ, показав взглядом на подушку, и быстро вышла: мне казалось, что смятение слишком явно отразилось на моем лице, и стоит Тамазу открыть глаза, как он тут же все поймет.
Весь вечер мама донимала меня допросом с пристрастием — воображение у нее разыгралось, она пыталась представить себя то на месте Дины, то на месте Зойки, а пару раз даже на месте Женьки и Тамаза. Особенно волновал ее вопрос, зачем Дине понадобился номер телефона пожарной команды, если у нее нет доступа к телефону.
Она без конца хотела обсуждать эту тему и обвиняла меня, что я от нее что-то скрываю.
Но я ничего от нее не скрывала, потому что ничего не происходило. На четвертый день Дина поднялась и вышла в салон, — бледная, но одетая и подкрашенная для работы. Она молча села в кресло в углу, взяла сигарету из пачки и как ни в чем не бывало попросила у Женьки зажигалку.
— Ты что, начала курить? — удивился Женька. Он был так растроган ее дружеским тоном, что, поднося к ее сигарете огонь, спросил: — Трубка мира?
Дина закурила, закашлялась и засмеялась:
— Трубка мира.
Я от ее смеха содрогнулась, такой это был черный непрозрачный смех, но Женька был доволен.
— Раз так, я дарю тебе эту зажигалку в знак примирения, — сказал он, и все уставились на него, не веря своим ушам: зажигалка у него была платиновая, сверхфирменная и страшно дорогая. Видно, он очень опасался, что Дина устроит ему сцену. Тут он заметил меня и прикрикнул, чтобы я шла убирать спальни, а не стояла столбом, где не положено, не за то он мне деньги платит. Я взяла свои швабры и ушла. Никого я больше в тот день не видела, — ни Дину, ни Зойку.
За ночь капризная природа сделала поворот на сто восемьдесят градусов: солнце светило как редко в Москве летом, цветов на деревьях высыпало видимо-невидимо, самых невероятных расцветок от лимонно-желтого до пурпурно-фиолетового, море смяло ближневосточной бирюзой, одолженной из сказок «Тысячи и одной ночи». И дома тоже пандан погоде наступила неправдоподобная благодать: Никита, насвистывая, выкраивал из консервных банок какие-то мудреные спирали, а мама, отказавшись от претензии на роль Монны-Лизы, встала ни свет ни заря и погрузилась в свои заброшенные было медицинские книги, уверяя, что с ее стажем и опытом ей ничего не стоит найти работу по профессии. Я не стала с ней спорить — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не морочило голову, — и побежала на работу, глупо радуясь всему на свете: солнцу, цветам и Никитиным спиралям.
Тамаз открыл мне дверь, тщательно, как обычно, запер ее за мной и сонно побрел на свою раскладушку. В заведении было тихо, душно и темно, все окна были наглухо закрыты, зашторены и затемнены наружными ставнями. Ковры, кресла и диваны густо пропахли терпкой пепельной смесью сигаретного дыма, пота и крепких духов, особенно невыносимой после голубого утреннего бриза, настоенного на желтых и лиловых цветах.