Александр Мелихов - Любовь к отеческим гробам
(отец ведь не виноват, что там, где у меня нарыв, у него роговой нарост), я с терпеливой лаской объяснял маме, что у меня была русская мать, никогда не портившая вкусные вещи какой-нибудь гадостью, – ею и воспитано мое обоняние. В ответ мама грустно вздыхала: “Ох и характер…” Ее печалит, что я вечно мучаюсь из-за пустяков. Характер у меня, возможно, и впрямь неважный.
Но, может быть, и, наоборот, ангельский: надо еще поглядеть, кто на моем месте сумел бы сохранить благодушие, когда ему перекручивают гениталии, запретив при этом даже стонать. Ведь если бы я попытался разъяснить, что оставляю за каждым полное право чувствовать или не чувствовать любые запахи – пускай только он так и говорит: “не чувствую”, а не объявляет, что запаха нет, – сама моя попытка теоретизировать из-за пустяка вызвала бы только вздох еще более грустный. Мама была бы вполне в состоянии понять, что пренебрежение точностью в гомеопатической дозе ранит меня только больнее: когда люди переступают через нее ради серьезных причин, это еще не так отчетливо говорит об их полном презрении к ней. Но любые уточнения сами по себе укладываются в формулу: “Мой сын страдает из-за пустяков”. В принципе, она могла бы попросить отца просто не задевать меня в таких-то и таких-то пунктах, раз уж я на них повредился, но это было бы непедагогично: сыновья должны сносить от родителей все, исключая разве что уголовные покушения на их жизнь и здоровье.
Стараясь не пыхтеть, широко открытым ртом выдыхаю в сторону, чтобы мама не заметила, как быстро я теперь начинаю задыхаться.
Без рубашки пот по крайней мере холодил бы, а не разъедал – но тогда откроется распластавший меня рубец. Отворачивая лицо, я повсюду вижу разные прибамбасики для лежачих – поильники, кормильники, пюпитры для чтения из магазина “Мелодия”, подносы, подсовы, колбочки, палочки, полочки: Катька хотя бы на “лечение” старается потрясти мошной небеса, ибо родители слишком уж слезно умоляют не покупать им новые вещи. У них действительно все есть, как у султана Брунея, остатки двух своих пенсий они еще и откладывают на книжку: “Уже два раза все потеряли, – неведомо кому ябедничает Катька, – теперь копят для третьего”. Поскольку их аскетизм служит ей укором, она выработала защитную формулу: надо уметь зарабатывать, а не экономить.
У Катьки практически нет недостатков – одни избытки. Впрочем, и всякое зло есть передозировка какого-то добра. (Нет, у Катьки все-таки имеется недостаток – игривости: она не умеет подмигивать, просто прикрывает свой лазурный глаз, а оставшимся простодушно высматривает, какое произвела впечатление.)
Отцовская, к примеру, тяга ко всяческому убожеству проистекает из преувеличенного благоговения перед человеческим трудом. Он лет до двадцати верил, что воду в кран закачивает некий Сизиф, денно и нощно сгибающийся и разгибающийся над пожарной помпой, – так с тех пор и торопится поскорее завинтить кран, щелкнуть выключателем, перекрыть газ, кислород… Новую горелку он зажигает от старой только при помощи обугленной спички: дерева на земле и так осталось…
Мамина испарина налилась до струящегося бисера, однако она и под распаренностью находит, чем покраснеть: ей снова нужно в туалет.
Ведь только же была!.. Я изображаю восторг тем более неподдельный, что это и для меня повод передохнуть. Я уже трижды допытывался, не слишком ли она устала, но – если врач велел
“нагружаться”, уж моя-то мама увиливать не станет. Отправляясь заранее включить свет в уборной, попутно заглядываю в ванную облиться – и обнаруживаю там деда: он моет руки без света – при открытой двери и так более или менее видно. Не удерживаюсь от выразительного вздоха. Долго плещу себе в раскаленное лицо, но брызги с шипеньем отскакивают, как от сковороды. Выхожу, щелкаю туалетным выключателем – и слышу через дверь протестующий голос отца: он и в темноте не промахнется. Дождавшись появления его обесцвеченных тренировочных с истрепанными в шпагатинки штрипками (от греха гляжу себе под ноги), снова зажигаю свет и впрок распахиваю дверь, но когда мы с мамой дошатываемся до нее, свет уже выключен, а дверь закрыта: папа успел навести порядок.
Приходится изворачиваться, оттягивать мамину руку, однако все
М-чувства я удерживаю в железной узде – чертыхаюсь одними губами.
Чтобы опуститься на древесно-стружечный хомут унитаза, мама исправной рукой берется за проездом ввинченную братом в стену дверную ручку, а я, придерживая маму за подмышки, одновременно перебирая пальцами, приподнимаю ее невесомую рубашку. Стараясь на что-нибудь при этом отвлечься, ибо приподнимание пробуждает во мне совершенно неуместные ассоциации. Затем я прикрываю дверь и жду – мне хочется ждать как можно дольше, чтобы глубже ощутить, что я что-то для нее делаю.
Разражаются завыванья спущенной с цепи воды, и я вновь бодрюсь, хлопочу, подныриваю, чмокаю, стукаюсь о стены, плюхаюсь на бородавчатый щит – меня нет, есть только мама.
– Так. Начинается борьба на руках. Армрестлинг, как говорят у нас на Енисее. Ну-ка не давайся! Сопротивляйся! Еще сильнее! Еще!
Я с замиранием сердца вглядываюсь, как в обвисшем чехле напрягается какая-то веревка, и раскатываюсь похвалами:
– Умница! Молодчина! Можешь передохнуть, заслужила!
– Господи, как я вас замучила… – вдруг убитым голосом говорит мама. – Я думала, сначала деда устрою, а потом уж сама… И вот тебе. Хоть бы уж скорей!..
– Мамочка, ну что ты такое говоришь!.. – Моя мольба прозвучала как-то по-отцовски – будто я спешил замазать ей рот, и я собрал всю свою нетренированную проникновенность: – Когда ты лежала без сознания, это был такой ужас!.. А теперь, когда мы снова все вместе, это просто счастье, ты понимаешь, счастье! Ты вслушайся, ты же знаешь, я врать не умею: ты даришь нам счастье, запомни!
Со стороны это, наверно, выглядело фальшивым, особенно мой порывистый разворот к ней, этаким испанцем, но мама вняла. И прикрыла глаза:
– Какие вы все хорошие…
И слезинки, слезинки сквозь сомкнутые веки…
– Наверно, мы ничего, – признал я. – Но ты заслужила больше.
“Хэсэд Яков” дважды в неделю направляет к маме помыть-постирать на диво распахнутую и влюбленную во все хорошее пенсионерку с похожими на мамины оптимистическими зубами, и она никак не нарадуется, что такой семьи еще не видела. Особенно Катя! Катька от нее тоже в перманентном умилении и постоянно что-то передает для ее внучат, а заодно старается перехватить у нее побольше дел. А мама – не дать ни той, ни другой. Рубашку как будто вчера надела, словно бы про себя размышляет она, оглядывая вывернутый ворот. А в молодости, бывало, хоть через день меняй – зато бабушка ее тогдашняя носит-носит, а стирать нечего: такая у стариков кожа сухая!
До меня только теперь начинает доходить, что мама когда-то действительно была молодой, была девчонкой, которая просыпалась среди ночи и с упоением думала: “Как хорошо спать!” – мне мама как предстала когда-то большой, сильной и кормящей, так до конца и не могу… Нет, сейчас я все мучительнее ощущаю ее маленькой девочкой – какой даже собственную дочь никогда не ощущал.
– Давай-ка лучше пойдем помаршируем. Ты точно не устала?
Мама не тот человек, который способен признаться в усталости без медицинской справки – приходится измерить ей давление Катькиным японским манометром, напоминающим батискаф. Вроде терпимо.
Выкатив маму в еврейском кресле в комнату побольше, я чуть не крякнул от досады: отец, накрошив лука и огурцов в черепаховый суп, перемешанный густоты ради с паштетом из соловьиных языков, среди глубоко протезированной мебели предавался беззаботному чавканью и всхлюпыванию перед телевизором, из которого в качестве острой приправы завывал женским голосом кавказской национальности туманный призрак, отороченный съехавшим вправо астральным телом (попытки заговорить о новом телевизоре пресекаются слезными мольбами). Но чтбо ужас и мерзость бессмысленных звуков в сравнении с мерзостью комментариев: ведь истинно для отца исключительно то, что либо первым приходит в голову, либо сообщено кем-то из своих. А в голову ему приходит только то, что психологически выгодно, – равно как и тем, кого он считает своими. Отец с такой беззаботностью, то есть бессовестностью, предается клевете на Россию, что мне очень редко удается высказать по ее адресу хоть какую-нибудь суровую правду – ибо приходится беспрерывно опровергать неточности.
Правда, и правда-то моя очень тривиальна: нации бывают только везучие и невезучие. А таких, которые любили бы чужие фантомы больше собственных, нет. Пожалуй, как раз Россия-то и побольше других готова обожествлять чужие призраки – пока не почувствует угрозу своему существованию. А тогда уж ведет себя, как все. Как все, кому не повезло.
А может, и не как все, может, и хуже – взять хотя бы эту странную тенденцию: чем мягче власть, тем сильнее ее ненавидят.
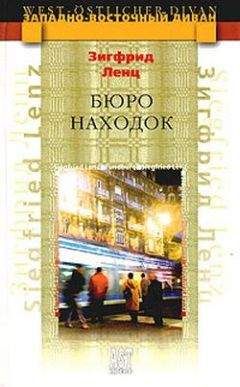

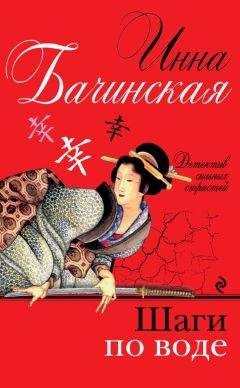

![Андрей Васильев - Снисхождение. Том первый [СИ]](/uploads/posts/books/271277/271277.jpg)