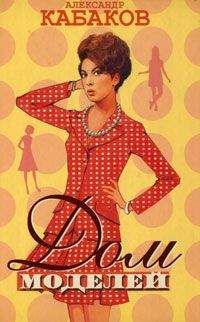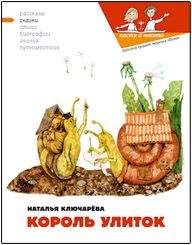Наталья Ключарева - Деревня дураков (сборник)
И так далее…
Бытовой сюрреализм
В Ленинграде отмечали юбилей Хармса. Открыли музей-квартиру. Привезли доску мемориальную, что, мол, «жил и работал». Приколотили, накрыли простыней, потом под звуки марша сорвали покровы, произнесли речи, похлопали… А когда гости разошлись, сняли доску и увезли в неизвестном направлении. Потому что не удалось получить от городских властей разрешения на то, чтобы доска там висела. Больше ее никто не видел.
В рамках информатизации всей страны в одно глухое село Красноярского края привезли в школу компьютерный класс. После чего местные жители написали такое письмо: «Уважаемый господин губернатор, спасибо вам большое за замечательный компьютерный класс. Не является ли его появление достаточным основанием для того, чтобы провести в наше село электричество?»
В калмыцкой степи поставили трехметровый бронзовый памятник Хлебникову. Издалека казалось, будто Хлебников идет по степи. Вскоре поэта из степи похитили. Подогнали «камаз», погрузили памятник в кузов и увезли. Потом Хлебникова где-то расчленили и распродали по кусочку.
Один ивановский филолог получил американский грант и издал цыганско-русский словарь, а также том цыганских народных сказок. Филолог хвастался шикарно изданным фолиантом, в переплете ручной работы, с золотым тиснением. Один человек, приходивший в филологическую общагу выпить, работал на скорой помощи, и на его участке как раз была цыганская деревня. Он взял фолиант и решил показать носителям языка. Сбежалась вся деревня. Привели под руки старейшин. Приехали на иномарках бароны. Честно просмотрели цыгане Цыганский словарь, от корки до корки. И не нашли ни одного знакомого слова! Но потом все равно украли. Из-за золотого тиснения.
В одном подъезде на окраине Ярославля нередко такое явление. На человека, решившегося подняться на свой этаж пешком, в темноте (лампочки всегда вывернуты) падает Карл Маркс. Это алкоголик из соседнего подъезда с окладистой белой бородой. Сюда он ходит в гости к одному ветерану, который умер три года назад. Карл Маркс ломится во все двери и требует Колю. Потом устает и затихает в темноте. Стоит, прижавшись к стенке, а когда кто-то идет – сразу падает, бородой вперед.
Памятник войне
В псковских полях лежит маленький серый камень. На нем вырезана уходящая прочь шеренга солдат. Одинаковые спины с рюкзаками и затылки в пилотках. Самый последний оглянулся – видно его мальчишеское недоуменное лицо.
На сером камне выбито: «Они ушли в бессмертие». Так буднично и просто, будто Бессмертие – это соседняя деревня, там – за куцым грибным леском.
А вокруг – невзрачные поля, и былинки былинно пригибаются к земле от ветра. Ощущение обыденности жизни и смерти, последней окончательной простоты, уравнивающей всё и вся.
У подножия памятника – искусственные гвоздики с выгоревшими холщовыми лепестками.
Музыка в необитаемом подъезде
Абхазия входит в сердце как две струи – живой и мертвой воды. Точнее, не так: то, что живо, обрушивается раскатистым водопадом, а мертвое поселяется внутри как незаметная заноза, которую никак не вынуть. И куда бы ты ни шел, какое бы изобилие ни рассыпала перед тобой пышная, чрезмерная природа, твой взгляд всегда немножечко отравлен, а дух – удручен. Жаркий влажный воздух, в котором, по идее, из всех человеческих чувств должна выживать только лень, простреливают разряды подспудного беспокойства. Черные взгляды людей, расслабленно опирающихся на парапет или потягивающих кофе в береговых кафе, вдруг с треском, как молнии, пересекаются у тебя за спиной – и понимаешь, что жизнь здесь имеет двойное дно. И в каком-то, скрытом от посторонних глаз, измерении война, которая закончилась четверть века назад, все еще продолжается.
Говорят, война на Кавказе имеет только начало. Конца у нее просто не может быть: новые поколения автоматически включаются в доставшийся по наследству сценарий кровной мести. И если по телевизору это «война между двумя народами», то на деле – между соседями, где все друг друга (враг врага) знают в лицо. Дурная бесконечность взаимной бойни. Остановиться они не могут. Могут только притвориться, что остановились, понуждаемые другой движущей силой здешней жизни: хитростью и жаждой денег.
Абхазия – прекрасная и нищая страна. Здесь ничего не производят. Многое, конечно, произрастает само, но извлечь из этого хоть какую-то выгоду не позволяет полулегальный статус республики. На границе с Россией перекупщики почти даром забирают фрукты у жилистых абхазских женщин, тянущих тяжеленные тележки. Мандарины идут, к примеру, по пять рублей килограмм, а на Казачьем рынке в Сочи – в двухстах метрах от таможни – уже по восемьдесят.
Единственный источник доходов – это туризм. Но как заманить людей в рай, прошиваемый автоматными очередями? Только так: сделать вид, что война закончилась.
Летом в Абхазии наступает необъявленное перемирие, и местные жители упоенно разыгрывают перед редкими отдыхающими нормальную жизнь. Девушки, похожие на изображения с греческих амфор, показательно выкатывают на набережную коляски. Из кофеен доносится чересчур беззаботный смех. И каждый встречный норовит завязать с приезжим разговор, где обязательно – между делом – промелькнет фраза: «Всё хорошо».
Абхазия похожа на спелый, чуть подгнивший персик, который хозяин, разумеется, повернул к покупателю непорченой стороной.
С началом туристического сезона нынешняя – неявная – война прячет свой тлеющий хвост в горах. Война прошлая, имеющая дату начала и завершения, и не думает скрываться. Въезд в Сухуми – узкий мостик над ущельем – сторожат мертвые: целая выставка могильных плит. На портретах – сплошь молодые лица. Год смерти у всех одинаков: 1993-й – время боев за абхазскую столицу.
В городе до сих пор каждый второй дом – развалины. В оконных проемах бушует тропическая растительность, на стенах – следы от пуль. В эти дома никто не вернулся.
Хотя кое-кто возвращается.
На границе мы видели молодого человека, одетого по-московски. Отмахиваясь от назойливых водителей, наперебой предлагавших подвезти, он, как заклятие, повторял одну-единственную фразу: «Я домой еду». И в голосе его было столько усталости, столько устоявшейся, давней боли, что как-то сразу всё становилось понятно. «Давно не был?» – тихо спрашивали громогласные таксисты. – «Давно». – «С тех самых пор?» – «С тех самых».
Мы приехали в Абхазию с Машей. Она родилась в Сухуми, но последние пятнадцать лет прожила в Нижнем Новгороде, куда попала совершенно случайно: школьницей участвовала в каком-то фестивале (Маша хорошо пела) и, когда все остальные юные дарования разъехались по своим городам, осталась. За неделю, что шел фестиваль, у Маши дома началась война.
На последнем пароходе из Сухуми бежали Машины родители с младшим братом. Бабушка уезжать отказалась.
В Нижнем Маша закончила школу, выучилась на музыкального критика, родила сына, стала известным журналистом, развелась. И вдруг решила вернуться.
Из двух квартир, принадлежавших Машиной семье, свободной оказалась только одна, рядом с рынком. Лопнувшие трубы, выгнувшиеся от сырости тома Брема в детской, на подоконнике – маленькая фотография Маши в пионерском галстуке. Пластмассовая кукла кажется седой от толстого слоя пыли и штукатурки.
Восьмилетний Машин сын Коля, не найдя в нежилых комнатах ничего интересного, просится на море. Маша еще не сказала ему о своем желании вернуться на родину. Слишком сложный предстоит разговор. Для Коли пока это просто каникулы.
Маша надевает отпускное платье с алыми маками на черном фоне, распускает густые волосы, темные, как ночное небо над Сухуми, и ведет сына на пляж.
С царственной осанкой идет Маша по главной улице родного города. Сын шлепает сандалиями по горячему асфальту. Около углового дома она останавливается.
– Вот эти два окна и балкон. Бабушкина квартира.
На окнах – новенькие жалюзи, в квартире теперь – офис телефонной конторы.
– Говорят, прямо во дворе расстреливали, – буднично добавляет Маша, когда сын уносится за беспризорным котенком.
В тот же вечер, когда Коля, уже успевший загореть, уснул на старой тахте, Маша нашла в буфете непочатую бутылку чачи. Выпила, чтоб взбодриться, но вместо этого окончательно расклеилась и бросилась собирать вещи, твердя, что завтра же отсюда уедет. Потом, успокоившись, решила: пусть Коля поплавает в море хотя бы неделю.
За эту неделю мы с Машей обошли все места ее детства: школу, музыкалку, дома одноклассниц. Повсюду – заросли ежевики, грохот цикад, кучи щебня и битого стекла под ногами. На стене бывшей булочной с провалившейся крышей видели нацарапанные кирпичом слова: «Жизнь одна – не воюй!»
Обитаемые дворы сразу вычислялись по натянутым между балконами веревкам, на которых жарились на солнце одеяла. Пожилые женщины в черных платках кричали нам из открытых окон: «Не надо ничего фотографировать!» И Маша, с той же усталой болью, что и парень на границе, отвечала: «Я местная, я здесь родилась».