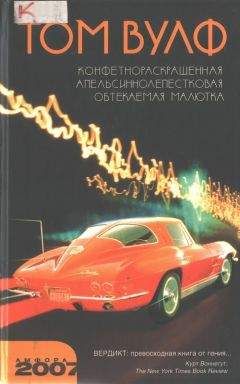Алекс Тарн - Иона
Ладно уши… черт с ними, с ушами… сам-то он где? Ээ-э… глупый, как же ты не понимаешь — где уши, там и ты. Да, действительно, это ведь так просто, мог бы и сам догадаться. Ну? А что — «ну»? Если уши на потолке, то и он, Яник, там. А почему тогда все тело болит? А потому что на потолке спать неудобно, это же ежу понятно. Ага. А еж-то тут при чем? Ну, как… у ежа рот где? У ежа? У ежа рот — где иголки. — Ну тогда все ясно, так бы сразу и сказал… Янику вдруг становится ужасно смешно, но он не смеется, потому что рот далеко — на пятке, а без рта — какой смех?
Хорошо хоть глаз здесь, под рукой. Только надоели эти дурацкие всадники — скачут и скачут, как очумелые, скучно. Яник пробует скосить глаз, чтобы рассмотреть еще что-нибудь, но у него не получается. Тогда он высовывает глаз наверх, как подводная лодка — перископ. Да! Он просто — подводная лодка, он — железная рыба с ядерным реактором, он — кит, проглотивший Иону, то есть самого себя. Да! И поэтому он такой молчаливый — ведь рыбы неразговорчивы, всякий знает; и рот у него поэтому на пятке, как у камбалы, только еще дальше. Хотя нет, у камбалы ведь глаз на спине, а вовсе не рот, это у него рот на пятке, и это тоже понятно — ведь он намного больше камбалы, он — большой железный кит-левиафан, вот.
И комната вроде тоже большая, хотя и не такая, как море. Яник осторожно, чтобы не вывернуть шею, поворачивает перископ и видит масляную лампу на вбитом в стену крюке. Это странно… как может быть лампа в море? А вот и может — на мачте корабля! Ведь может? Может? Ну то-то же… не изображай себя дурнее чем ты есть. Кстати, где-то он уже видел такую лампу… когда-то очень-очень давно… на большом таком поле… или в долине… ну точно, в долине. Уф… Яник чувствует ужасную усталость. Эта чертова лампа отняла у него все силы — нашел на что тратиться… Давай-ка лучше поспим. Ага, давай. Яник убирает перископ и дает команду аварийного погружения. Нырнем поглубже, и пропади оно все пропадом… Закрывая глаза перед объявшими его водами сна, Яник-кит еще успевает полюбопытствовать, спросить у Яника-субмарины — как там всадники на стене? Все мчатся неведомо куда? Точно, мчатся, несутся… нет, несутся — это курицы… ага, курицы и павлины… курицы и пав…
Он открывает глаза через пять тысяч лет, а может, и больше — кто считает?.. Ну-ка, ну-ка… Ты смотри-ка: все на месте — и рот, и уши, и душа, и одежда, и… нет, мысли еще не совсем — ты ври-ври да не завирайся. Кстати, как там со всадниками?
Яник смотрит на стену. Пусто! Все ускакали, умчались в неведомую даль во главе со своим забубённым военачальником товарищем будённым, или как его там… Ни одного не осталось. И слава Богу… Яник тщательно примеривается и, собрав мысли в кулак головы, вспоминает, как люди садятся. Как они это делают, в натуре? Не в тюрьму то есть, а просто. Скажем, лежал себе человек и вдруг — бац! — сел. Перешел из состояния в состояние. Или, из солежания в сосидение. Как-то ведь они это делают… А чего б тебе не попробовать, Яник? Ты, главное, не бойся. А я и не боюсь; я вот, к примеру… руку — сюда, а ногу… — надо же, получилось!
Яник садится и гордо смотрит на стену. Стена раздвигается, и из нее выходит Мишаня с шубой. Оба они мокрые насквозь. Шуба, она, дура, промокла… помнишь, Яник?.. ну да, насквозь промокла — в той самой речке, где Мишаню застрелили, конечно, помню. А почему же Мишаня мокрый, если его застрелили? Ну как… ведь он всегда потеет, Мишаня… оттого и мокрый, известное дело. Да разве ж они потеют, мертвые? Не-е-ет… мертвые не потеют… а и впрямь, Мишаня, отчего ты потеешь, если ты мертвый? Непорядок…
Мишаня улыбается своею застенчивой улыбкой и разводит руками — мол, извини, Яник. Мол, ты же за мной это свойство знаешь… потею, хоть ты тресни, даже мертвый… никакие дезодоранты не берут. Я же тебя предупреждал, помнишь? Помню, как же, конечно, помню. Но ты ведь мертвый, Мишаня, правда? Ты ведь остался там, в том неизвестном притоке большой ассирийской реки, нашпигованный пулями по самое не могу, остался со всем своим потом и со всеми своими мечтами… остался, брошенный мною — умирать в злой крутящейся воде, один. Один! Один, пока я, петляя, как заяц, рыл вверх по склону, подгоняемый собственным страхом… Ты уж прости меня, Мишаня, а? Посмотри на меня, гада мерзкого, пресмыкающегося… и прости. Ты ведь за этим и пришел — простить, правда?
— Правда, — кивает Мишаня. — За этим и пришел… ты уж извини, что я все молчу — мертвым много говорить не положено, как рыбам.
— Ну и ладно… не положено, и — ладно… А зачем тебе шуба-то эта проклятая? Камеру, я вижу, ты так и не сыскал, утащило, да? Утащило… Ты видишь, Мишаня, какая все-таки скотская это штука — жизнь, и как нет в ней человеку никакого везения? Камеру — утащило, а шуба эта гадская осталась… где тут логика?
— Да, — соглашается Мишаня и снова улыбается, ничуть не печально, потому как зачем печалиться о таком общеизвестном факте?
Нечего печалиться, да… Удивляться можно, а печалиться-то зачем?.. что этим изменишь?
— Так зачем ты ее за собою таскаешь, шубу?
— Ну, как… — Мишаня озадаченно разводит руками. — Отдавать-то надо; я ж ее взаймы брал, ты что, забыл? В Хайфе, у приятеля… неудобно… ты уж, Яник, того…
— Конечно, конечно, о чем речь, Мишаня, обязательно сделаю. Найду твоего приятеля, из-под земли достану, будь покоен. Так и передам: мол, не беспокойся, друг-приятель, о своей вериге; Мишаня ее хранит пуще глаза и вернет в целости и сохранности при первом удобном случае. Годится?
— Годится, — говорит Мишаня. — Ты, Яник, вот что. Ты бы поспал, что ли. А то лица на тебе нет. Эк они тебя накачали… А я пойду, ладно?
Ага. Накачали будьте-нате. Ты иди, Мишаня, иди, родной… я тут пока прилягу на немножко… вот так… на чуть-чуть…
И проходит еще три тысячи лет, а может, больше, а может — меньше… Яник садится и трясет головой. Где он? Большое помещение… подвал?.. подземелье?.. черт его знает, одно понятно — окон тут нету. Земляной пол, сырость; на грубой каменной кладке стен — живые водяные потеки. Масляная лампа. В углу — куча тряпья. Опоясанная железом дверь из мощных деревянных плах. Как он тут оказался? Яник трет ладонями виски. Ну да… место называется Лалеш, или Люлёк, или еще что-то в этом роде. Во всяком случае, сюда он приехал на такси… шофер не взял денег… потом это дикое камлание — местный вариант топталовки… Да, точно, он искал тут Пал… был еще портье-армянин по имени Джо… и записка… А потом? Потом — люди в тюрбанах у входа в гробницу — и все, обрыв. Видимо, тут-то его и прижучили. Он ощупывает голову; нет… — ни шишки, ни ссадины… отключили как-то по-хитрому, умеючи. А потом еще всадили какой-то гадости… сколько же времени он тут кукует? На часах — около десяти… дня?.. ночи?..
Яник встает… о, ноги держат… — и то хорошо. Он подходит к двери — заперто… ага, а ты чего ожидал, умник?.. Яник осматривается — что тут еще? Тряпье это грязное? В полумраке особо не разглядишь; он пробует кучу ногой и отскакивает как ужаленный — одновременно с диким криком, от которого вздрагивает ровный огонек лампы: «Не-е-ет!!» Какую-то долю мгновения ему даже непонятно, кто кричал — не он ли сам?.. и только потом Яник понимает, что кричала куча, что это вовсе не куча, а человек!.. — человек, бесформенной неподвижной грудой лежавший до того на полу, а теперь сидящий, вернее, не сидящий — ведь трудно назвать сидением это состояние крайнего ужаса, эту крупную дрожь, это судорожное сучение ногами и слепое, беспорядочное мельтешение рук. «Не-е-ет!!» — кричит он снова и, закрывая лицо руками, боком, по-черепашьи, сдвигается в сторону. Там больше света, и…
— Господи-Боже-мой, — вырывается у Яника свистящей скороговоркой, потому что иначе ему просто не выдавить воздух, застрявший в задохнувшихся легких. — Господи-Боже…
— Не-е-ет!!
— Успокойся, Андрей, это я, — говорит Яник, стараясь звучать спокойно. — Это я, Яник. Ты что, меня не узнал? Посмотри, это ведь я…
Белик вдруг разом обмякает и начинает всхлипывать, все так же пряча лицо в ладонях. Яник наклоняется и кладет руку ему на плечо. И снова Белик вздрагивает, как от ожога. Что с ним?
— Что случилось, Андрей? Да посмотри же на меня наконец…
Сквозь хлюпанье и сморканье прорывается какой-то неуместный сумасшедший смешок.
— Сейчас… посмотрю… еще как посмотрю… — придушенно шепчет Белик и снова хмыкает, будто смеется — раз за разом, еще и еще.
Ну да, точно, смеется… Что за черт этот Андрей Первозванный, птица-феникс, ванька-встанька! Только что рыдал, трясся от страха, как загнанный зверек, и вот — нате вам! — чудесное воскресение. Сейчас он опустит руки, и на лице его непременно обнаружится обычная циничная усмешка. Ну и ладно, пусть себе улыбается, вдвоем всегда веселее.
Белик опускает руки и поворачивается в сторону Яника. На лице его и в самом деле усмешка — привычная, беликовская… вот только поворачивается он не совсем к Янику, то есть к Янику, но не точно, а как слепой, как будто наугад, на голос. И немудрено, Яник… как же ему еще поворачиваться с выколотыми глазами? Что можно увидеть этими пустыми красными ямами, сочащимися слезами и сукровицей? Из Яникова горла вырывается странный писк; девятый вал рвоты накатывает на него, он отбегает в угол и выворачивается наизнанку.