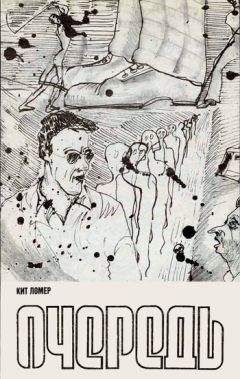Андрис Пуриньш - Не спрашивайте меня ни о чем
— Не все ли равно? Я знаю лишь то, что у тебя не может быть такой брат, — уныло долбил я в одну точку.
— У тебя же у самого есть брат.
— Нету, нету, нету!
— Ты мне однажды рассказывал.
— Был, был, был! Нету больше… Ешь сосиски. Наверное, уже совсем остыли…
— И ты его любил?..
— Да не знаю сам! Быть может, иногда любил и, может быть, очень часто не любил тоже. О чем я вспоминаю… Это было давным-давно… Я был мал и глуп, чтобы что-нибудь понять…
…Любил ли я Эдиса? И не узнал ли я об этом лишь в тот день, когда мы вошли в некий дом, называвшийся странно и страшно — часовня?
Там в черном ящике лежал Эдис. Гроб был обложен венками, и еще было несметное количество цветов. Но брат мой не любил цветов. Почему, не знаю. Он лежал в своем новом костюме из английской шерсти. Я ходил с ним на первую примерку.
— Ну как, Иво? — Он повернулся на каблуках.
— Отлично, Эд, но брюки в коленках надо чуть ушить.
Братишка сказал это портному, и тот сузил в коленях.
Брюки получились мировые и пиджак тоже. Вообще мне казалось, что он может нарядиться в лохмотья и все равно будет иметь шикарный вид.
А потом там играли на органе, пели печальные песни, какой-то мужчина длинно выступал, а Эдис лежал и не двигался, и я стоял и смотрел.
Все плакали и утирали слезы, а я смотрел на Эда а чего-то ожидал, сам не знаю чего, потому что так встречался со смертью впервые в жизни. Видал я сморщенных старичков и старушек, но так, Эди…
Он лежал бледный, безмолвный и красивый. Потом какая-то тетка подтолкнула меня вперед, чтобы я подошел к Эдису. В руке у меня была только одна красная альпийская фиалка, потому что я знал — Эдис не любит цветы. Я не хотел брать букет лилий или других дурацких цветов, и тогда мне сунули в руку альпийские фиалки. Все, кроме одной, я выкинул в мусорную кучу. Вы ведь знаете, на кладбищах есть такие кучи.
Подошел к Эдису, так и не понимая, отчего все плачут. Положил алый цветок ему на сердце, решив, что братишка все-таки не рассердится. Коснулся рукой его плеча и поцеловал в лоб. Он был холоден, словно растаявшая на ладони снежинка…
Моя рука лежала у него на плече, он был тут, со мной.
Подняли крышку гроба, процессия тронулась, я шел как во сне, и в голове у меня была единственная мысль: Эдис от меня на расстоянии нескольких шагов.
Подле ямы в желтом песке незнакомый человек опять произносил речь, и опять пели хором мужчины…
Открыли лицо Эдиса, он поглядел сомкнутыми веками в осеннее небо и на багрянец берез, на высокие облака, уплывавшие на юг вместе с клином курлычущих журавлей. Солнце осветило его лицо — оно сделалось еще бледней.
Гроб накрыли крышкой, четыре человека бережно опустили на длинных полотенцах черный ящик в яму, полотенца вытащили, глухо упали первые горстки песка, цветы, разобрали лопаты, и песок посыпался… в могилу.
И тогда сердце мое сломалось. Сломалось сердце. И это было страшно, так страшно, что проживи хоть миллион лет, этот страх, эту боль никогда не сможешь забыть.
Я понял, что братишку своего, Эда, никогда больше не увижу. Что я приду домой, буду сидеть подле теплой батареи, возможно, буду слушать Уайт Рум, его любимую песенку, но он никогда ее больше не услышит, он останется здесь, всеми покинутый, один в холоде и темноте, всегда один, и я был не в силах объять умом, как это мой брат, такой добрый и сильный, никогда не возьмет меня с собой на футбол, я не мог понять, как эго он больше никогда не треснет меня ласково по шее и не скажет: «Ну, маленький сыч, на завтра все уроки выучил…», — никогда в моей жизни, никогда!
Многие говорят: время лечит любые раны. Все это вранье! Время не залечивает любые раны. Верно, время затягивает их тонкой корочкой, но достаточно вспомнить, и рана сызнова кровоточит.
Мне рассказывали, что после того, как люди уже начали расходиться, я вдруг завыл волчонком, повалился на могильный холмик, раскидал венки и цветы и кричал сквозь слезы: «Эд, Эд, братишка, поедем завтра на рыбалку, червей я уже накопал, очень хорошие червяки, завтра будет замечательный клев, Эд, к твоей удочке я уже привязал наш самый лучший крючок. Во сколько мы, братишка, поедем, ты меня разбудишь, ладно, я же с таким трудом просыпаюсь, ты ведь знаешь…»
Меня подняли, но я все дергал руками, будто раскапываю песок, и лицо мое было в слезах и в земле. И мама, рассказывают, целовала мое грязное лицо, а я все выкрикивал что-то непонятное и рвался к могиле. И папа понес меня к такси на руках, и меня привезли домой.
Я этого не помню.
Но помню, что у нас дома собрались близкие, и проснулся я ночью не в своей постели.
С одного бока у меня лежал папа, с другого — мама. И руки моп были белые-белые, в бинтах.
И я заплакал — тихо, стараясь не разбудить их…
Но все-таки они проснулись. Они ничего не сказали и, наверно, уснули опять, когда заснул я.
Теперь я стал у них единственным ребенком.
Я сидел на белом стуле у нее в саду.
— А что? Почему бы нам действительно не сходить? — сказала Диана.
— Это вовсе не так близко, — возразил я. — Пока туда доберемся, будет уже вечер.
— До чего же ты разленился, прямо страх берет. Лет через пять обрастешь жиром — ни одна девушка глядеть на тебя не захочет.
— А мне и ни к чему, если только на меня смотришь ты.
— Я-то буду смотреть, потому что для меня ты всегда будешь стройным Иво, какого я увидела в первый раз. А ты вот перестанешь меня замечать, потому что я состарюсь.
— Такие пустяки пускай тебя не волнуют. Для меня ты будешь вечно юная.
— И все равно ты, мучаясь одышкой, держась за сердце, будешь семенить за школьницами.
— Когда ты так говоришь, мне хочется обнять тебя крепко-крепко.
Она срезала чайные розы и звонко смеялась.
Она подошла к белому стулу, на котором я сидел в саду, с лукавой улыбкой глядела на меня.
Желтые розы покачивались у меня перед носом. Я положил руку ей на бедро.
— Эти розы без шипов.
И весь мир сделался вдруг желтыми лепестками роз, сделался душистым и свежим, на меня даже чих напал.
Когда я отчихался, смешинки звенели уже около стола — она ставила цветы в вазу.
— Роза колет не только шипами.
— Но это приятный укол. После такого не жалко, если немного и поболит.
— Ха! — воскликнула она с вызовом и взяла вазу, чтобы отнести ее в дом.
— Я отнесу, — предложил я.
— Ну нет уж! По пути обломаешь у роз все шипы. Да, так на чем мы остановились? Ага, на том, что пойдем в гости к твоим друзьям!
— С какой стати? Так мы не договаривались!
— А по-моему, ты согласился. — Она разыгрывала удивление.
— Тебе показалось.
— Иво, ну пожалуйста… Ты давно обещал познакомить меня с друзьями.
— Если тебе так хочется… Ладно!
— Вот видишь… Ты никогда ни в чем не можешь мне отказать. Надо только тебя жалобно попросить, и ты сделаешь все, чего от тебя хотят…
— Ах так? Когда-нибудь припомню тебе эти слова.
— Пустяки! Просто надо будет просить еще жалобней.
Она скользнула за угол дома, а я влез в комнату через окно и развалился в кресле-качалке. Когда она вошла, я сидел, покачивался и насвистывал песню про розочку в саду.
— Опять ты за свои фокусы! — сказала она, как бы смирясь со своей нелегкой участью. — А теперь сгинь! Я надену купальник.
— Почему это сгинь? Разве я тебе помешаю? — наивно удивился я.
Она поставила вазу на стол и подошла ко мне. Я ожидал, что сейчас она выставит меня из комнаты. Вцепился руками и ногами в кресло. Пускай выбрасывает вместе с мебелью, если хочет. Но она взяла меня за плечи и повернула к окну.
— И сиди паинькой.
— Я всегда паинька. Даже более того. В этом мое несчастье.
— Не вздумай только на этот раз себя осчастливить! — посмеялась она.
— Человек, страдающий комплексами, не может меняться так резко.
— Я о тебе этого не сказала бы, — заметила она. — Ты меняешься на глазах.
Тем не менее я был паинькой и сидел, подымливая сигаретой, слегка раскачиваясь в кресле.
Слабый ветерок колыхал занавеси, временами сдувая их в сторону, и тогда в окне на миг возникало отражение комнаты и вновь пропадало, словно бы накатывалась белая пена морских волн. И когда белая пена расступалась, я на миг видел Афродиту, купавшуюся в море первозданного хаоса и полагавшую, что она одна на всем белом свете и никто ее не видит.
Когда я заметил, что она уже в купальнике, насколько мог естественно и безразлично встал, подошел к столу и погасил сигарету о раковину. Диана едва приметно вздрогнула, но ничего не сказала. А что ей было сказать? Если ее такую на пляже я видел много раз. Однако видеть ее на песке, где лежит много людей и ты как тюлень в стаде тюленей, совсем иное дело по сравнению с тем, когда видишь ее одну и никого больше нет.