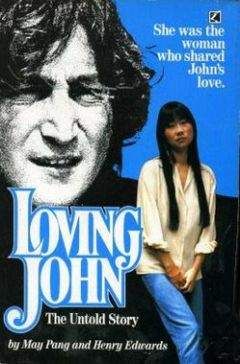Андрей Аствацатуров - Скунскамера
Мы захихикали.
Пудерсель метнула в нашу сторону гневный взгляд.
— А ну тишина! — произнесла механическим голосом Фаина. — Старостин! Мне долго ждать твой дневник?
— Я его дома забыл…
— Нет, ну вы полюбуйтесь на него! — всплеснула руками Пудерсель.
Фаина, распахнув глаза, не мигая, смотрела на Старостина. Ее лицо было как будто совершенно безучастным. Старостин тем временем состряпал жалобную мину и сокрушенно дернул плечами. Это должно было означать, что он чувствует себя виноватым.
— Распоясался! — зловеще улыбаясь, произнесла Пудерсель среди всеобщего молчания. — Если он в пятом классе так распустился, то к десятому — нас всех перережет! Извините, Фаина Николаевна.
Пудерсель, тряхнув кудрявой шапкой волос, пересекла класс и исчезла за дверью, которая, поглотив ее, захлопнулась.
Фаина Николаевна по совместительству была завучем по воспитательной работе и часто на своих уроках вместо географии, которую она совершенно не знала, читала нам долгие нотации. Вот и на этот раз, едва Фаина открыла рот, мы сразу поняли, что она зарядила до конца урока. Реки, озера, равнины, полезные ископаемые, которые грозили двойками и тройками, были забыты. Карты так и остались неразвернутыми. Фаина Николаевна рассказывала о дисциплине, о детской комнате милиции, о колониях для малолетних преступников, сопровождая речь пугающими примерами, которыми ее снабдили в РОНО. Но мы были все равно довольны этим уроком, внезапно развернувшимся не по правилам, и слушали ее очень внимательно.
Городовой моей души
«Ну, вот, Аствацатуров, — заметит язвительный читатель. — Вместо того чтобы писать как следует, связанно рассказывать грустную историю своей жизни, взялся за старое, снова пустился блохой скакать взад-вперед».
В самом деле. Кому, в конце концов, нужен мой закупоренный мир? Кабинеты, гостиные, аудитории, бары, автобусы, самолеты? И вдобавок — чужие стреноженные мысли, топчущиеся в детском манеже. Ничего интересного во всем этом хозяйстве нет. Одно только зловоние и больные нервы.
И чего это я опять заметался?
Виноват. Простите. Сам наобещал с три короба, а дурацкая привычка опять взяла верх. Откуда-то снова выползли маленькие люди, сюжетики-тараканы, заползающие в щели, оставленные большими настоящими писателями.
Довольно! Откроем камеру! Выпустим джинна из бутылки! Разобьем решетки и каменные стены тюрьмы! Возьмем в зубы яблочко-песню, прицепим на бок мушкетерскую шпагу и помчимся вперед навстречу приключениям. Я исправлюсь. Сейчас вы сами убедитесь, как текст постепенно начнет набирать темп.
И все-таки…
Мне не дает покоя один вопрос. А вдруг стены этой камеры, которые нам мешают, вдруг они на самом деле нас охраняют? Ведь не случайно я тогда зимой провалился в пруд. И не зря же в Петербурге на улице имени террористки Софьи Перовской (виноват — на Малой Конюшенной) поставили памятник городовому. Хороший памятник. И городовой такой убедительный. Ладный, подобравшийся. С «душою». Стоит по команде «вольно». Каска, мундир, штаны в обтяжку, из которых выпячиваются места причинные. Знай, мол, наших!
И сразу — в голове картина. Генерал, отвечающий за правопорядок, берет слово на собрании градостроителей и высказывает предложение. Смелое и рискованное. Поставить памятник городовому. Начальственные либералы от этих слов впадают в чрезвычайное волнение и велят подать шампанского.
Вот вам и ответ. Все дело в справедливом распределении благ. Пусть либеральное начальство волнуется, ставит памятники городовым и пьет шампанское. А мы позволим себе некоторую беспечность — предадимся погоне за сюжетом.
Шлемазл
В школе я старался вести себя тихо. Но по поведению всегда получал оценку «удовлетворительно».
Учителя почему-то считали меня хулиганом. Почему — сам не знаю. Стоило мне кого-нибудь случайно толкнуть или пробежаться, как меня тут же ловили и записывали в дневник замечание. К старшим классам я понял, что стараться совершенно не нужно. Потому что мир абсолютно непредсказуем. Можно быть тише воды, ниже травы — и все скажут, что ты хулиган. А начнешь бегать, каждый день драться на виду у всех — прослывешь пай-мальчиком. Тут нет никакой логики.
Отца мои неудачи не сердили, а даже забавляли. Однажды он мне, смеясь, сказал:
— Понять не могу, почему ты всегда попадаешься? Хулиганят все, а попадаешься именно ты!
— Мне не везет…
— Не везет ему, — хмыкнул папа и, смеясь, продолжил, беря в свидетели маму, сидевшую рядом. — Посуди сама, Верочка! Весь класс кидался снежками, а снег чистить отправили нашего красавца. Потом это… в кинозале все галдели как сороки, а замечание написали только ему… уроду тряпошному…
— Старостину тоже замечания пишут! — оправдывался я.
— Старостину? — папа махнул рукой. — Нашел себе пример! Докатился! Ты бы лучше себя с отличниками сравнивал… — тут голос его потеплел, — с Лешей Петренко, например…
— Ты — шлемазл! — глядя мне прямо в лицо, объявила мама.
Что значит «шлемазл» я не знал и вслух высказал предположение, что это тот, кто носит шлем.
— Ага, шлем, — подтвердил отец, — шлем олуха царя небесного.
Я закусил губу. Возразить родителям было нечего. Учителя меня всегда ловили с поличным. А вот папу — ни разу. Только однажды, по его, конечно, словам, когда он фикус с подоконника уронил. Бабушку вызвали в школу и сказали:
— Платите за фикус, он теперь завянет!
— Вот когда завянет, — рассудительно ответила экономная бабушка, — тогда и заплачу.
И еще раз — в университете, когда первого апреля к стенгазете кто-то приклеил большое объявление. В нем сообщалось, что профессор Петр Созонтович Выходцев прочтет доклад на тему «Мои подвиги в Великой Отечественной войне». Объявление написал поэт Вадим Кривулькин, но в деканате подумали почему-то на папу и его чуть не выгнали из университета. Папа после этой истории невзлюбил поэта Кривулькина и всегда потом плохо отзывался о нем самом и о его стихах. Но оба эти случая были, скорее, исключениями. Я же попадался постоянно.
— Теперь все будет по-другому, — говорил я себе через час, стискивая зубы и сжимая кулаки. Родители что-то обсуждали на кухне. А я сидел в комнате перед телевизором. Там показывали мою любимую певицу Таисью Калинченко. В нее я был влюблен гораздо больше, чем в Настю Донцову. Маленькая, но грозная женщина, в красной кожаной куртке, она стояла у стены Петропавловской крепости, где цари пытали революционеров, и пела звонко и лучисто, гордо вздергивая подбородок.
Я снова поднимаюсь по тревоге.
И снова бой такой, что пулям тесно…
Ты только не сорвись на полдороги,
Товарищ сердце, товарищ сердце…
На короткое мгновение я представил себе такой бой, бой на Малой земле, где воевал сам Брежнев, где от огня плавился металл и рушился бетон, а пулям было тесно. Мне тоже захотелось стать по тревоге в строй, куда-нибудь пойти вместе со всеми и там умереть. И чтобы другие увидели мою смерть и поняли, какой я на самом деле.
Гвардейцы его высокопреосвященства
В тот самый вечер, когда я вдохновлялся песнями Таисьи Калинченко, мои одноклассники смотрели по телевизору вторую серию русских мушкетеров. Четыре отважных друга в широких шляпах с перьями, в развевающихся плащах дрались на шпагах, скакали на лошадях и радовались красавице и «куку». Уже через несколько дней все в нашем классе знали, что отличник Боря Пешкин создает тайную организацию «Четыре мушкетера». Подробности не разглашались. Было только известно, что руководят этой организацией кроме Бори еще три человека и принимают они к себе далеко не всех. Нас со Старостиным, понятное дело, не позвали. Боря Пешкин велел ему и мне передать, что очкастых в мушкетеры не принимают. И двоечников — тоже.
Я очень расстроился. В основном за себя. На Старостина мне было наплевать. В конце концов, думал я, он сам виноват. Двойки получает. Из пионеров исключили. А меня-то за что? Я и учусь на четверки, и книгу про мушкетеров читал, и даже фильм смотрел.
Но в глубине души я понимал, что Пешкин прав. Очкастыми мушкетеры не бывают. От этой мысли мне стало еще обиднее. Настоящий мушкетер, думал я, должен уметь скакать на лошади, фехтоваться и все такое. А у меня — дурацкие очки на носу. Начну фехтоваться — они сразу свалятся, разобьются. Мама будет орать. Я вот на физкультуре всегда в очках — и то все смеются. А тут — даже не физкультура. Мушкетеры. Дело серьезное.
За этими мыслями я просидел весь урок математики. На перемене Старостин позвал меня в туалет, «поговорить».
Для школьника туалет — это место, где он вдыхает запретный запах свободы. Здесь хочется отдыхать, дышать полной грудью, кричать, петь, рассказывать небылицы, делиться сокровенным.