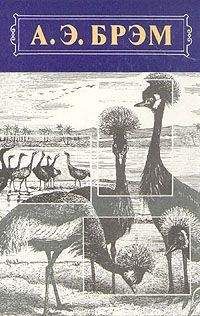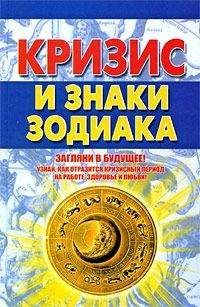Виктор Смирнов - Заулки
Это позже, позже, чуть повзрослев, ринется Димка в спорт, в беспощадную физкультуру, ранние предрассветные пробежки, прыжки и закалки, окрепнет и станет равным сопернику в драках, а пока что для него, пришлого, чужака, жизнь в курской слободе была избиением, жестокой школой, из которой он, впрочем, вышел, не утеряв щенячьей любви и интереса к себе подобным. Была и еще одна причина Димкиных страданий, о которой он никому никогда не расскажет, Началось это с того гнусного вечера, когда пацаны с полевого конца Пушкарской слободы накинулись на него у самого края яра, где густо росли кусты шиповника, натерли ему спину и шею ягодами, внутри которых вызревала мякоть, начиненная мелкими ядовитыми к лючками. Потом они швырнули его в глубину яра, в песок, и, пока Димка лежал там, закусив руку и дергаясь от рыданий, рассказали ему все, что думали деревенские о его маме. Эти слова врезались в него, когда спина вспухла и он провалялся в горячке всю ночь, пылая от жара, боли и позора. Да-да, а еще раньше, днем или двумя, схватив его за ворот, прижали носом к оконному стеклу заброшенной тогда школы: «Смотри, смотри! Вот так твоя мать с немцами». За стеклом видны были склещившиеся — одна на другой — мухи. Пары то распадались, то соединялись в сложном мушином любовном хороводе.
А мать видели в городке, она ходила по парку с какими-то оккупационными чинами, а потом приезжал в слободу важный, плотный, на бричке с солдатом-ездовым — серебряные погончики, серебряный кант на фуражке — и увез мать, принарядившуюся, в цветном платке, с новым, незнакомым еще Димке ожерельем, из цветного стекляруса на шее, кататься. И деревенские полицаи, здоровенные мужики с повязками на рукавах и карабинами за плечами, отдавали честь.
Ничего не сказал Димка матери, когда она расспрашивала его в ту горячечную ночь, отчего вспухла спина. Впрочем, мать привыкла ко всяческим Димкиным увечьям, и эта неожиданная лихорадка ее не особенно встревожила. А Димку трясло от жара, от ненависти и любви к матери. Теперь он вступал в войну не только с теми пацанами, что жили на полевом конце слободы, но со всеми пушкарскими. Прощайте, костры в ночном, варка кулеша, купания в пруду… Отныне он будет в вечной оглядке, нескончаемой борьбе.
Еще не было известно о гибели отца, еще ждал Димка увидеть его среди тех, кто освободит курские слободы, которые после неудачного зимнего наступления так и оставались под немцем. И вот мать… как она могла, как надела она бесстрашно и нагло среди бела дня цветастое монисто — офицерский подарок? И самое обидное было в том, что среди насмешников и угнетателей Димкиных было немало и полицейских сынков, которых никто не трогал, не задирал — можно было и плетки схлопотать от папань.
Только отчаянностью, безумной, дикой, мог Димка хоть как-то удержаться в мире сверстников, заставить их считаться с его присутствием. И он старался. Когда мать в очередной раз лупила его за смертельную выходку с оружием, лупила, плача от переживаний — с зажмуренными глазами, наотмашь, Димка не выдержал, сам зарыдал — не от боли, нет, от несправедливости. И прокричал ей, захлебываясь, со злобой загнанного хорька то, что о ней говорят в селе пацаны, какими словами. Он ужаснулся тому, что говорит, и старался вырыдать все скорее, громче, острее.
Мать прекратила лупцовку, оделась, ушла. Вернулась она поздно ночью. В избе было душно: хозяйская семья немалая, да еще они, эвакуированные, жильцы — бабка, мать, тетка да он, единственный мужик. Дети спали на полатях в углу, с ними, на краю, — Димка. Димка сразу проснулся: ждал. Мать наклонилась — от нее пахло духами, помадой, бинтами, лекарствами, этот сложный запах она всегда приносила с собой из городка. Димка давно догадывался, что она бывает не только в госпитале для наших раненых военнопленных. Этот госпиталь занимал первый этаж разрушенного дореволюционного здания. Раненые, свезенные сюда с зимних полей после атаки Обояни в январе сорок второго, а среди них и тяжелые, те, что оставались здесь еще с сорок первого, лежали на соломе, на полу, впритык — сестры и врачи ходили меж ними, осторожно ставя ноги. Димка не раз бывал в том госпитале, читал свои стишки, носил из деревни харчи, собранные бабками. Немцы не давали госпиталю ни медикаментов, ни продуктов, врачи и сестры работали добровольно, без карточек и жалованья. Да и то хорошо было — не трогали. Правда, выздоравливающих увозили в лагеря, кроме тех, кому удавалось уйти. Одного такого, прихрамывающего, злого, Димка выводил осенними рощами поближе к Ивнянским лесам. Духи, помада — это не из госпиталя, это от немцев. И еще уловил Димка легкий запах какого-то чужого вина, тонкий и нежный, ничем не напоминающий обычную бураковую сивуху, которую гнали ведрами в каждой слободе. «Не спишь?» — догадалась мать. Она потянула его за руку во двор. Стоял осенний холод, было тихо, лишь в хлеву вздыхали громко и стучали, копытами — казалось, там целое стадо. Мать обхватила его — сжатого, молчащего. Зашептала: «Господи, ты уже все понимаешь, Дим. Все… Я не углядела, как ты стал большим. Ты лишь выслушай меня и запомни. Потом будешь судить, потом, через много лет. Сейчас только слушай… И запомни. Знаю, знаю, тебе достается. Мне тоже. Где лекарства достать, перевязочное, ты думал, Дим? У них, только у них. Ведь на мне весь госпиталь держится, триста раненых… На всех не могу, но хоть что-то, что-то. Сегодня сульфидина достала, целых сто граммов. Ко мне этот главный полицай, Белохвостый, приставал, грозил выгнать нас на улицу, немцам донести, что раненым помогаю уходить к своим. Кто защитит, ты думал? Их, полицаев, здесь двенадцать мужиков в слободе, если б не герр Вуппер, они бы меня каждый в сарай потащил… ты не думал об этом? Я же молодая, Дим, я красивая, ты потом это поймешь. Я чужая здесь. Я же еще полсела от Германии спасаю, от работ. За то и уважают. А герр Вуппер, он хороший, он сочувствует, он понимает. Они не все одинаковые, Дим, очень даже… Герр Вуппер многое делает, очень многое, если бы не он… Ты только никому не проговорись, Дима, я тебя умоляю, ты многих людей погубишь. Я признаюсь тебе, потому что больше не могу терпеть твоего взгляда. Не могу. Подожди, подожди, Со временем Ты узнаешь, что мне удалось, сделать и не будешь стыдиться».
Но Димку не устраивало «потом». Он жил этим днем и не мог по-иному. Да, он хорошо знал, что немцы разные. К ним в слободу часто приезжали на фуре двое, рядовой и фельдфебель, толстый и тонкий. Они угощали детей жирным немецким шоколадом, пили бураковый шнапс, пели песни, толстый, Пауль, играл на губной гармошке, огромной, блестящей, звучавшей на все слободские концы. Они не жалели своих битюгов — с пышными гривами, с хвостами, завязанными узлом, чтобы не волочились по земле и не хватали репьев, красавцев коней: впрягали в плуг, помогали пахать, убирать картошку, катали детей. Однажды, напившись, на всю улицу орали «Интернационал» и заставили полицаев слушать по стойке «смирно». Они первые произнесли незнакомые до этого, а потом ставшие как бы припевкой слова «Гитлер капут», Весной, перед немецким бегством, перед тем, как пронеслась через Обоянь, через слободы напуганная толпа вояк, бросая раненых и машины, на сельской улице вновь, после долгого перерыва, увидели Пауля. Фельджандармы провели его избитого, в растерзанной шинелишке, без ремня и без сапог и расстреляли под городом. Пацаны ходили смотреть на могилу — березовый крест, как и у всех у них, с каской поверх, но на еврейской части кладбища. Выяснилось — это у них крайний позор… А второй, пошли слухи, сумел убежать к Долгим, Будам, где были партизаны. Якобы с важными сведениями. Димке казалось, что эти двое каким-то образом были связаны и с герром Вуппером, и с матерью, но расспрашивать не стал, понимал, что не следует.
И еще Димка почувствовал в ту ночь объяснения, что не все еще высказано матерью, не все, потому что запах вина и помады говорит не только о мучениях, не только о сульфидине, который тайком передает ей герр Вуппер, приворовывая где-то на складе, но еще и о тайных радостях. И он, стиснутый, закоченелый, позволял матери обнимать себя,
«Димка, Димка… Еще и жить хочется, жить. Кругом кровь, одни лапанья, угрозы и приказы. И хочется, чтобы защитил кто-то. Мне надоело все самой. Твой отец не был мне защитником, я сама спасала его. А теперь вот война. Совсем трудно. Не могу больше. Хочу, чтобы рядом был мужчина, надежный, чтоб больше ничего и никого не бояться. Димка, ты когда-нибудь поймешь, что такое женщина. Не сейчас не сейчас…» Димка слушал мать и весь разламывался на части, весь исходил внутренней, непонятной ему самому болью — то сталкивались в его сердчишке любовь, нежность, ревность, ненависть, и рождался в этих муках какой-то новый мир — взрослый, загадочный, трудный, непостижимый до конца ни для кого, и уж тем более для него, мальчишки.
…Но не об этом же рассказывать Головану, не об этом! И Димка безудержно хвастается своей отчаянностью, выходками, поджогами и взрывами, в которых он уцелел чудом, благодаря невероятному везению. Жуткие, ну просто жуткие случаи!